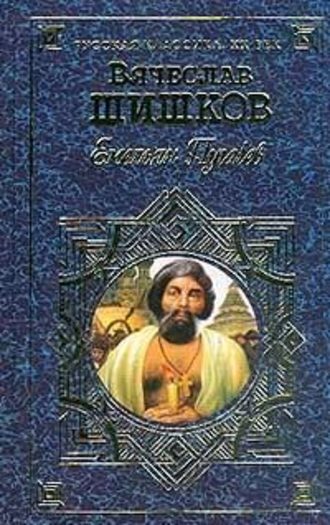
Вячеслав Шишков
Емельян Пугачев, т.2
3
Ранним утром, при восходе солнца, вся армия Пугачева была приведена в боевой порядок и построена в восьми верстах от Казани, вблизи села Царицына. Все полки, во главе с полковыми командирами, стояли по своим местам. В центре расположены были самые сильные, испытанные части с пятнадцатью пушками. Здесь был Пугачев с Овчинниковым, Горбатовым, Белобородовым, Минеевым. Старые и молодые екатерининские солдаты, захваченные в Осе и Казани, были, по совету офицера Минеева, разоружены: «По совести говоря, на них, ваше величество, вполне положиться опасно». Солдат отвели в тыл, по флангам, и замест ружей дали им окованные железом шесты, а их ружьями снабдили, по совету Белобородова, уральских горнозаводских крестьян: «Они люди надежные и, будучи охотниками да звероловами, из ружей палить привычны».
– Гарно, гарно, – одобрил Пугачев. – А храбрости да усердия к делу нашему им не занимать стать. Знаю!
Пугачев лично проверил все пушки, подсчитал заряды.
– Эх, маловато ядер-то, – сказал он, почесывая за ухом. – Ты, Чумаков, зря ума не пали из пушек, с понятием норови. – И, обратясь к офицеру Минееву, добавил: – Вот ты, ваше благородие, бахвалился все: возьмем да возьмем крепость. А где она, крепость-то? Зевка дали мы! Поди, пороху-то у них там сколько хошь, да и пушки...
Минеев что-то забормотал в свое оправдание, но Пугачев, отвернувшись от него, подошел к Горбатову.
– Ну, как, полковник, сговорился ли с девушкой-то? Осталась, нет?
– Нет, государь... Обещалась прибыть утром, да вот... не сдержала слова.
– Ну и само хорошо, и само хорошо! – воскликнул Пугачев, прищурив правый глаз. – Бабское сословие, ведаешь, в нашем деле одна помеха. Вот и я, как видишь, свою государыню оставил. Где-то она, цела ли, сердешная? Ведь Яицкий-то городок тю-тю от нас.
– Мне уповательно, – сказал Горбатов, – что атаман Никита Каргин как-нито убережет ее.
– Дай-то Бог да Матерь Божия... А я, ведаешь, как Дашу-то дозрил вчерашний день, сразу вспомнил: да ведь она верной подружкой моей государыни Устиньи-то была. Эх, только бы отечеством завладать, быть бы Даше у государыни во фрейлинах, а ты – генерал-аншеф. Ась?
– Премного благодарен... До этого далеко еще.
– Верно, полковник, далеко! Глазкам-то видно, да ножкам-то трудно...
– Будем дерзать, государь.
– Эвот пятерых турок из Туретчины пригнали в Казань, прямо с войны, тепленькие, как со сковороды оладьи. Наши казаки вчерась забрали их, в Ивановском монастыре скрывались, нехристи. А как мы учинили им допрос, они показали: Катька-то моя замиренье с султаном ладит заключить... Тады, чуешь, супротив нас целые полки двинут... Ась?
– Сие не так скоро, государь.
– И то верно: улита едет, как говорится, когда-то будет.
Пока шли эти разговоры, Даша сидела взаперти и тихомолком плакала. Игуменья Ираклия и рясофорные монахини встретили вернувшуюся Дашу радостными криками: «Ой, дитятко наше! А мы уж и вживе тебя не чаяли видеть. Да и как это тебе Казанская Божия Матерь помогла от злодея-то вырваться?» Даша в ответ рассказала старухам какую-то малоправдоподобную историю. На совете старицы постановили: во избежание каких-либо несчастий Дашу держать взаперти без выпуску, пока злодейские толпы не будут отогнаны от Казани.
И вот Даша сидит под замком, со строптивостью взглядывает на икону и неутешно плачет. Неужели ей не суждено снова встретиться с Андреем?
Меж тем точных сведений о приближении разведки Михельсона еще не поступало, поэтому армия вела себя вольно. Многие, развалясь на земле, сладко спали, иные варили на кострах хлебово, некоторые, швыряясь вверх медными пятаками, играли в орлянку. Кони паслись на траве, вездесущие собачонки всюду шмыгали.
В лагере, на Арском поле, предусмотрительно грузились возы добром, запрягались барские экипажи под семейство колченогого Ивана Наумыча Белобородова, Софью Пугачеву с детьми, царскую стряпуху Ненилу с девочкой Акулечкой и под временных гулящих женок пугачевской верхушки, вроде дебелой Домны Карповны. Все эти красотки, одетые по-дорожному, грудились возле карет и фаэтонов. То крикливо тараторя меж собой, то с тревогой прислушиваясь, они ждали первого пушечного выстрела, чтоб сесть в экипажи и спешить прочь от страшной кутерьмы.
В стороне ползала на четвереньках по луговине девочка Акулечка и, опустив голову, что-то пристально искала. Одетая в серое чистое платьишко и аккуратные сапоги с голяшками, она походила издали на овечку, которая щиплет зеленую траву.
– Чего потеряла, Акулька? – спросил ее подскочивший Трошка Пугачев.
– Иголку потеряла, вот чего, – ответила девочка Акулечка. – Вишь, казаку на рубаху латки ставила, а иголка-т мырк! Ах она, проваленная... – и девочка, продолжая ползать, тоненько залепетала: – Черт, черт, поиграй да опять мне отдай!.. Потеряли да нашли, подобрали да пошли. Ищи, Трошка, ты глазастый.
Подбежали Трошкины сестренки – Христина с Грунькой, в их руках по тряпичной кукле с льняными косичками, бусинками вместо глаз и алыми губами. Смастерила их Акулька. И вот ребятенки стали ползать вчетвером, искать иголку. Искали долго, усердно.
– Эти куклы маленькие, – сказала Акулька, подымаясь с четверенек. – А я тебе, Христя, большую куклу смастерю, толстая такая барыня будет, платье с карналином, волосы из кобыльего хвоста. Ужо, ужо я притащу. – И Акулька, подхватив починенную рубаху казака, побежала к себе в Ненилину палатку. И вдруг, волчком крутнувшись на одной ноге, радостно закричала:
– Эвот она, иголка-т! В рубахе.
Оставшиеся в лагере пожилые крестьяне, исполнявшие службу старост при своих походных деревенских артелях, запрягали телеги, сваливали на них артельное добро. К некоторым телегам были привязаны коровы, сведенные из городского стада. И по всему огромному полю двигались без суеты люди и животные, – лагерь, хотя и неспешно, готовился на всякий случай к отступлению.
Солнце поднялось довольно высоко. В армии Пугачева, занимавшей большое, пересеченное оврагами пространство, все сразу оживилось. Раздались бой тулумбусов и барабанов, пронзительные высвисты дудок, резкие командные выкрики:
– По полкам, молодцы! Казаки, на конь!.. Канониры, к пушкам!
Вдали, верстах в четырех, начал выдвигаться из леса тысячный корпус Михельсона. Хотя солдат и кавалерии в отряде мало, но все они наторелые вояки, закаленные беспрерывными походами. Народ молодой, отборный, заласканный. Они вошли во вкус сражаться с безоружными крестьянами и одерживать над ними легкие победы. Им обещаны всякие льготы, всякие милости от военачальников и от самой царицы, и они работают на славу, безжалостно, порой без всякой нужды, истребляя своих собратьев. Офицеры отряда отличались уменьем воевать с огромной, но малодисциплинированной толпой и были преданы престолу, как и сам подполковник Михельсон.
Боевые качества Михельсона высоко ценились покойным Бибиковым, Брантом, Паниным, Голицыным и впоследствии даже самой Екатериной. Мир дворянства и крупных промышленников видел в нем спасителя отечества. Так, полгода спустя, известный богач, горнозаводчик Прокофий Демидов, посылая Михельсону ценный «презент», между прочим писал ему: «Ты с малым, но храбрым корпусом не устрашился нападать на толпу разбойничью... Ты отвратил злодейское намерение притти на царство Московское... Ты дал мне жизнь и прочим московским гражданам от убиения собственных наших людей, которые, слышав его злодейские прелести, многие прихода его жадно ожидали и разорять, грабить и убивать господ своих желали».
Михельсона знал и Пугачев. В Кенигсберге ему, молодому казаку, довелось тащить на носилках раненого Михельсона в лазарет и перемолвиться с ним немногими словами, вслух пожалеть его. И вот теперь, через пятнадцать лет – частые встречи на полях беспрерывных схваток. Пугачев яростно ненавидел его, но и, не скрывая, умел ценить в своем враге умную воинственность.
– Эх, ежели б этого вояку да мне в помощники, натворил бы я делов, – с большой душевной скорбью иногда говорил он. – Добрую половину своих атаманов поменял бы я на одного его.
Михельсон тоже немало приходил в изумление от храбрости и умелых действий пугачевцев. Он не раз в своих донесениях писал: «Мы нашли такое сопротивление, какого не ожидали: злодеи, не уважая нашу атаку, прямо бесстрашно шли нам навстречу, однако помощью Божией, по немалом от них сопротивлении, были обращены в бег». И еще: «Злодеи на меня наступали с такою пушечною и ружейною стрельбою и с такой отчаянной храбростью, кою только в лучших войсках найтить надеялся».
И вот снова Михельсон и Пугачев лицо в лицо.
Михельсон, обозрев в трубу стоявшую против него силу, сказал:
– Ого! Да их тут в двадцать тысяч не уложишь. И откудова берется эта сволота? Ну, как, господа офицеры, отдыхать будем или на приступ поспешим?
Офицеры – их человек двадцать, – рекомендовали отдых: солдаты, особенно кони, от длительных беспрерывных переходов выбиваются из сил.
– Ежели мы на них тотчас не ударим, то они обрушатся на нас всей лавой, – возразил Михельсон тоном, не терпящим противоречий.
Он приказал майору Дуве обойти с небольшим отрядом левый фланг неприятеля, а майору Харину – правый.
– Сам же я с корпусом ударю в центр расположения, постараюсь разрезать неприятельскую толпу пополам, и тогда станем по частям бить. Ну, с Богом!
После осмотрительной, неторопливой подготовки силы Михельсона стали мало-помалу переходить в наступление. Первые двинулись вперед, в обхват флангов, небольшие отряды Дуве – Харина.
Пугачев, объехав своих молодцов с бодрящим словом, поместился на пригорке сзади армии и принял команду боем.
Как только михельсоновцы двинулись к центру фронта, вся пугачевская армия, в особенности многотысячное крестьянство, подняла оглушительный воинственный рев и крики, а главная батарея открыла по врагу огонь. Общий неимоверный рев толпы и грохот пушек, перехлестывая Арское поле, летели далеко за Волгу. Казаки и горнозаводские метко стреляли из винтовок, ружей и мушкетов. Башкиры и калмыки наскакивали на вражеские перебегавшие шеренги, осыпали их стрелами. Вскоре михельсоновцы дрогнули, попятились.
– Вперед, ребята, вперед! – раздался голос подскакавшего к ним Михельсона. – Что, гвалту перепугались?
– Не гвалту, а стегает, черт, подходяво! – останавливаясь, отвечали солдаты.
– Детушки! Фланги борони, фланги! – кричал Пугачев, видя, как на фланги наседают отряды двух майоров. Он послал туда Горбатова с Минеевым, а сам поскакал к центральной батарее.
– Чумаков! Варсонофий! Пали без передыху! Где у вас заряды? Детушки! Веселей подноси ядра-то да картузы с порохом!
Возле батареи уже валялось несколько убитых, бежали прочь, в глубину расположения, раненые и оробевшие. Свистали пули. Битва во всему фронту тянулась больше двух часов, но сражающимся время показалось как одна минута. После ожесточенной перестрелки и рукопашных схваток середка пугачевского фронта заколебалась: пушки, подхваченные сытыми конями, затарахтели, по приказу Пугачева, на другое место. Вломившимся с криком «ура» михельсоновцам, несмотря на их порядочные потери, удалось разорвать пугачевскую громаду на две части. Большая часть, вместе с Пугачевым и Овчинниковым, повернула направо и наткнулась на отряд Харина, а меньшая – на майора Дуве. После непродолжительной схватки Дуве удалось рассеять неприятеля и забрать у него две пушки. Отряд же Харина, на который с гамом и гиком налетели отчаянные пугачевцы, оробел, смешался, стал поспешно отступать.
Пугачев с Овчинниковым выбрали хорошую позицию. Они остановили свое войско за глубоким рвом, тесным проходом возле мельницы, и открыли по неприятелю убийственный огонь. Майору Харину для поражения врага надлежало спуститься в овраг, затем подыматься открытым местом в гору. Харин, страшась больших потерь, на это не осмелился. Михельсон, подтянув резервы, поспешил ему на помощь. После жестокой схватки ров в трех местах был перейден, пугачевцы атакованы. Непрерывный бой длился семь часов, солнце давно закатилось, на землю пали густые сумерки, приближалась ночь.
В конце концов пугачевцы не выдержали, бросили шесть орудий и рассыпались во все стороны. Михельсон преследовать их не решился. Все-таки за самим Пугачевым с Горбатовым и Ермилкой небольшой отряд чугуевцев учинил погоню, но Пугачев нырнул со своими в лес и там скрылся в темноте. Когда за ними неслась погоня, Пугачеву попритчилась в кустах на Арском поле всеми забытая девочка Акулечка. Он вымахнул из лесу и, полный тревоги, бросился догонять обоз.
Нагнав, Пугачев помчался вдоль многочисленных телег с народом и, не переставая, выкрикивал:
– Где девочка Акулька? Где Акулька?
– Я здеся-ка, батюшка, здеся-ка! – пропищала с воза девчонка, выпрастывая из-под дерюги голову. – Я седни иголку потеряла, да нашла!
С сердца Пугачева – как с души камень. Обшлагом полукафтанья он вытер лоб и с облегчением передохнул.
Снова взошла луна. Даша все еще сидела взаперти. На возвышенности громоздился, притаившись, кремль. Там были слышны раскаты битвы, но Потемкин, сказавшись больным, на помощь Михельсону не вышел.
Михельсоновцам досталось несколько пушек и до семисот пленных, главным образом безоружных крестьян, которые не умели прытко бегать, и горнозаводских работников, которые стойко бились. Попал в плен и офицер Минеев. Отряд Михельсона ночевал на месте боя. Минеев, выданный пленными солдатами, был приведен к Михельсону.
– Ты офицер Минеев? – спросил Михельсон.
– Да.
– Это ты предал на Каме трех офицеров, которые были злодеем казнены?
– Я не предавал. Они сами попались с поличным.
– Мерзавец! – холодно крикнул Михельсон и было бросился на пленника с кулаками, но сдержался. – Повесить эту сволочь!
И Минеев, под лунным светом, на густой опушке леса закачался в петле.
4
Наутро Михельсон двинулся к Казани и остановился на Арском поле. Его ошеломило печальное зрелище: полусгоревший город еще дымился. И не успел Михельсон по-настоящему осмотреться, как заметил надвигавшиеся на него силы Пугачева. Он послал к губернатору Бранту поручика барона Дельвига с просьбой выслать ему воинскую помощь.
При содействии выведенного из крепости отряда подполковник Михельсон перешел в быстрое наступление и вторично разбил оплошавших пугачевцев.
За усталостью своей кавалерии Михельсон не мог преследовать отступавшего врага и ночевал под Казанью, на месте боя.
Пугачев переправился за реку Казанку и, отойдя верст двадцать от города, начал собирать свои разрозненные силы. Слава о царе-защитнике гремела по всему Поволжью, к нему отовсюду валил народ: крестьяне, бурлаки, городская голытьба. И уже через два дня под знаменами «батюшки» снова скопилось вместе с основными его силами до пятнадцати тысяч сермяжного воинства.
Сбежавшиеся к нему люди точно знали, что «батюшка» терпит поражения, что ему не дают покоя генералишки и что они, безоружные мужики, плохая ему помощь. Они знали также, что «проклятущие катерининские супостаты» побивают насмерть многие тысячи крестьян, а того больше – забирают в плен, чтобы затем драть плетьми, рвать ноздри, вешать. Но преклонение перед именем «батюшки-заступничка», неистребимая тяга к земле и воле, лютая тоска по правде-справедливости были сильнее всех страхов: крестьяне, бросая свои засеянные нивы на заботу женщин, спешат к «царю-радетелю» и многие из них готовы в схватке с «кромешной силой Катерины» пролить кровь свою.
И чем хуже становилось «батюшке», тем сильней тянуло к нему народ.
Несколько по-иному складывались дела с башкирцами. По мере того как Пугачев стал отдаляться от Башкирии, башкирская конница начала помаленьку отставать от Пугачева. Из-под Осы ушла третья часть башкирцев, после поражения «бачки-осударя» под Казанью их осталось в его армии не так уж много. Это не значит, что они успокоились и навсегда сложили оружие. Нет, продвинувшись к себе в Башкирию, они под начальством своего вождя Салавата Юлаева или самостоятельно, без руководства, толпами, продолжали свое дело. Но со стороны неустроенных башкирских толп иногда снова проявлялись бессмысленные насилия над русским населением.
Эти неполадки омрачали Пугачева и его близких.
– Вот непутевые, – брюзжал он, лицо его дергалось. – Это богатые баи да муллы с толков их сшибают... Они, несмысленные, забрали себе в голову, что волю-то с землей только в ихней Башкирии берут... Ан нет, еще до воли-то, мотри, взопреешь, язык-то мокрый станет. А ежели начал положен, работай до последа, не порти путь наш, не сбивай... – И, грозя пальцем, сурово добавлял: – Еще спокаются они, башкирцы-то, спокаются! Их, одних-то, генералишки замордуют вот как, говори, где чешется. Ихние баи да муллы завсегда правы останутся, а народ-то простой претерпит люто.
И другие немаловажные обстоятельства заставляли призадуматься вождей пугачевской армии: чем дальше армия отходила от Урала, тем меньше оставалось надежды получить с заводов пушки, порох, снаряжение.
Шествие Пугачева теперь уже не могло быть свободным, выбор пути его с каждым днем становился ограниченнее: и здесь и там возникали заслоны из правительственных войск. А сзади наседал неуязвимый Михельсон. Да! Надо было во что бы то ни стало раздавить его громадой, надо было штурмом взять казанскую крепость. Ох и зудят же у Пугачева кулаки на Михельсона, изомлела вся душа!
Военный совет был скор: единодушно постановлено идти вновь под Казань.
Девочка Акулечка уже успела нарвать полевых цветов для «батюшки», казаки у котлов ели кашу, Ермилка доругивался с Ненилой. По армии пронеслась команда – готовиться к походу.
К вечеру пугачевцы подтянулись опять к Казани. Переночевали и чем свет принялись строиться в боевой порядок.
Михельсон получил от Потемкина подкрепление в двести человек. Этому вспомогательному отряду приказано было атаковать врага во фланг, но пугачевцы с такой яростью набросились на атакующих, что половина потемкинских солдат подверглась уничтожению, половина в страхе разбежалась.
Бой с Михельсоном длился более четырех часов. Пугачевцы метко отстреливались из пушек и ружей, ряды наступавших михельсоновцев редели. В рукопашном бою пугачевцы брали верх. Мужики орали, как тысячи медведей, глушили солдат топорами, рогатинами, кольями. Михельсон приуныл духом. Неужто этот сброд осилит его? Он с минуты на минуту ждал из крепости дополнительной помощи себе – ведь там до тысячи солдат, – однако помощь не появлялась. Но ни тени колебания, иначе – все погибнет. Пугачевцы в двух-трех местах с превеликим гамом и ревом уже перешли в наступление. Еще, еще усилие, и они опрокинут михельсоновцев.
– Де-е-тушки! – то здесь, то там гремит голос Пугачева.
Распаленный Михельсон бросился к своим укрытым в лесу резервам.
– Солдаты! – закричал он, взмахивая саблей. – Нам надлежит либо умереть, либо победить! Вперед, к победе! Матушка-государыня не оставит вас без награды!..
Он верил в силу своего слова, солдаты были отлично вымуштрованы, и во главе с офицерами весь резерв ринулся на пугачевцев. В запасе, кроме обозных и раненых, не осталось ни одного человека. Впереди уланского полуэскадрона, рядом с бароном Игельстромом и поручиком Фуксом, скакал польский конфедерат Пулавский. А впереди всех – сам Михельсон.
Натиск был для пугачевцев неожидан. Перетянутые на ближний пригорок михельсоновские пушки принялись шпарить по толпе картечью. У Чумакова же с Варсонофием Перешиби-Нос оставались считанные заряды. Крестьянство, поражаемое картечью, опрометью кинулось врассыпную.
Вскоре дело было кончено: пугачевцы отступили, потеряв последние девять пушек.
И Михельсон только тут заметил голубое знамя с черным орлом, оно ослепило его.
– Знамя! – хрипло заорал он. – Голштинское знамя!.. Ребята, хватай, лови!.. – И он поскакал за Пугачевым.
Вместе с «батюшкою» мчались на свежих лошадях Горбатов, Ермилка со знаменем, атаман Овчинников. Проскакав верст пять, Михельсон повернул назад, но чугуевцы продолжали погоню. «Нет, не может быть, не может быть, – бормотал Михельсон. – Подделка... Ну а ежели доподлинное? Откуда же оно взялось? Чудеса в решете!»
Преследование длилось на протяжении двадцати верст. У погони запалилось и пало немало коней. Пугачев ушел.
Сведений о разорении Казани в Петербург еще не поступало. Но запоздалое известие, что Пугачев со своей армией, обманув бдительность высланных против него отрядов, повернул в начале июля на Каму и может угрожать Казани, вызвало в правящих кругах большое беспокойство. В особенности известием недовольна была Екатерина.
На военном совещании Григорий Александрович Потемкин, некоронованный властитель империи российской, заявил:
– Нет, это уму непостижимо... Какой-то казак Пугачев, столь грубый разбойник, славно, однако же, умеет отыгрываться от наших генералов. За нос их водит, аки индюков. И мне сдается: либо генералы у нас плохи, либо Пугачев изрядный молодец. И по моему мнению, ежели позволит всемилостивая государыня, сей генеральский кризис надо разрешить тако: малорасторопного главнокомандующего князь Федора Щербатова с должности снять и на его место поставить князь Петра Михайловича Голицына. В разгроме толпы под Татищевой крепостью, следствием чего было освобождение Оренбурга, он показал себя сущим героем. А Щербатова вызвать сюда для изустного доклада о настоящих того края обстоятельствах.
Возражать Потемкину считалось опасным, да, в сущности, и не было причин его оспаривать. Князь Григорий Орлов, как-то невнятно посмотрев на Потемкина, сказал:
– Надлежало бы направить на восток воинское пополнение, ибо...
Но его без всякой учтивости тотчас перебил Потемкин:
– Сие уже сделано и вступило в силу. – Он вынул из кармана составленный им от имени императрицы черновик рескрипта князю Голицыну, высокомерно взглянул на прикусившего язык Орлова, с нескрываемым укором посмотрел в лицо «всемилостивейшей матушки», опрометчиво пригласившей на это совещание своего бывшего «друга», и, встряхнув головой, стал гулко читать выдержки рескрипта: – «Получа известие, что злодей со своею толпою впал в пределы Казанской губернии, я приказала нарядить полки: пехотный Великолуцкий, Донской казачий и драгунский Владимирский. Сие войско будет в окружности Казани как обсервационное, которому, по усмотрению пользы, действовать согласно с нами».
Далее в умело составленном Потемкиным рескрипте перечислялись меры к защищению границ сибирских и башкирских, а также давались указания, как удобнее «прижать пугачевскую вольницу к которому ни есть неподвижному пехотному нашему посту». Рескрипт заканчивался: «Начинайте с Богом! Я ожидаю от усердия вашего ко мне полезных следствий. Екатерина».
При закрытии совещания Потемкин как бы невзначай бросил:
– А в конце-то концов надлежало бы отправить туда для командования войсками некую знаменитую особу, вровень с покойным генералом Бибиковым стоящую.
За эту знаменательную фразу мысленно уцепился присутствующий тут министр иностранных дел граф Никита Панин и, не задумываясь, решил в уме: «Знаменитая особа – это мой родной братец Петр. В лепешку расшибусь, а так оно и будет».
Где-то там бушевало людское море, гремели пушки, пылали города, но молодой столице все нипочем. Богатые дворяне по-прежнему «бесились с жиру», чиновники гнули спины над бумагами, мздоимствовали, купцы торговали, барская дворня (ее было почти половина столичного населения) с привычной покорностью обслуживала своих господ, прислушиваясь одним ухом к народным толкам о мужицком царе-избавителе.
А в общем, все шито-крыто, тишь да гладь. Правительство всего более заботилось о том, чтобы сокрыть от народа грозную смуту на окраине и неуклонно пресекать всякую «народную эху» о пожаре на востоке.
Петербург хорошел, веселился. На проспектах, на одетых в гранит набережных – гением Растрелли-сына, Деламота, Кваренги и других – на удивленье всему миру и на многие века возникали великолепные дворцы и храмы. Был в работе «Медный всадник» – бессмертное творенье Фальконета, вечный памятник бессмертному Петру.
Столичные власти негласным повелением Екатерины всячески старались развлекать народ праздничными гуляньями, которым придавалась как бы роль горчичников, вытягивающих излишний в подъяремном народе жар. Гулянья устраивались на Царицыном лугу и на обширной площади вдоль Адмиралтейства, где впоследствии разбит был Александровский сад. Петрушка, балаганы, карусели, катанье с искусственных гор. В торжественные дни гулянья кончались «огненною потехою», то есть фейерверком.
В Летнем саду с двух часов гремела придворная или шереметевская роговая музыка. Хор придворных егерей-рожечников в сто человек был одет в красные кафтаны с белыми камзолами и в черные треугольные шляпы с плюмажем из белых перьев. Музыкальные рожки, от маленького до трехаршинного, неприглядные с виду, внутри покрыты лаком и тщательно отделаны. Они издавали нежные, приятные звуки, и хоровое исполнение на них напоминало собою звучание органа. Послушать эту «ангельскую музыку» сходилось множество народа, секрет и особенность которой заключались в том, что каждый рожок, за отсутствием ладов, мог издавать лишь одну определенную ноту: ре или соль, ля или фа-диез и так далее. Таким образом, музыкант не тянул мелодию, как это делается при игре на флейте, а, следя за нотами, ждал своего времени, когда ему дунуть в рожок, ни на момент раньше или позже. В этом состояло все искусство, и пьеса напоминала собою музыкальную мозаику, выложенную из отдельных звуков. Рожечники при продаже из одного рабства в другое расценивались дорого: до двух, до трех тысяч за человека, тогда как обычная рабская душа стоила в среднем рублей тридцать.
Заботу о народных развлечениях взяли на себя отдельные вельможи: Елагин, граф Строганов, Нарышкин. Они делали это не только в угоду «матушке», но и в целях своего дворянского благополучия. У Строганова в его большом саду бесплатно угощали жителей вином и яствами, во время гулянья «ломались» паяцы, акробаты, пускались потешные огни. Нарышкин имел на петергофской дороге огромный трехверстный сад, при входе висело объявление: «Приглашаем всех городских жителей воспользоваться свежим воздухом и прогулкою в саду для рассеянья мыслей и соблюдения здоровья». В саду были раскинуты палатки с закусками, с пивом, дымились котлы со сбитнем. Пели и плясали цыгане в цветных костюмах. Здесь же обычно завязывались и первые в сезоне кулачные бои, до которых граф Алексей Орлов был большой любитель.
Иногда сад навещало высшее общество. На особых площадках, под звуки оркестров, затевались танцы, как-то: полонез, променад, альман, уточка, экосез, котильон и другие. Под сенью дерев за ломберными столами дулись в карты: тритри, рокамболь, квинтич, ерошки и пр. Зачастую за этими столами проигрывались целые деревеньки. Не повезло барину в азартную игру юрдон, – как тогда говорили, «проюрдонился в дым». Барин горюет. А мужички в это время сидят себе, не ведая беды, дома, но через месяц им скажут: «Ну, собирай котомки да айда в Тамбовскую губернию: вас барин другому господину проюрдонил».
Сановники и богатые помещики славились широким русским гостеприимством. Обеды, ужины, рауты были почти ежедневно то в одном, то в другом барском столичном доме. Какой-нибудь захудалый дворянин мог во весь год не иметь своего стола, ежедневно питаясь у знакомых и даже незнакомых лиц. На вечерах гремела музыка, в десятом часу накрывали ужин человек на двести. Толпа слуг в галунах, под началом дворецкого, угождала веселящимся гостям. На одном из столов ставился сервиз серебряный, на другом – из саксонского фарфора. За первым суетилась прислуга почтенная, старая, за вторым служили молодые. Подавались аршинные стерляди, судаки из собственных прудов, спаржа из своих огородов, белая телятина, выхоленная в люльках на своем скотном дворе. Персики, ананасы, виноград – тоже из своих оранжерей. Во всем – обилие, роскошь. Так проходил будничный приемный день. Торжественные же балы были баснословны. Умопомрачительной расточительностью устроителей они приводили в изумление даже иностранных дипломатов, знавших блестящие версальские пиры Людовика XVI.
Пышность и роскошь жизни вельмож поощрялись сверху не только в тяжелое для государства время, как взбадривающее начало, но и на протяжении всего царствования Екатерины. Лишь Павел I, предпринявший гонение на все вообще екатерининское, положил конец пирам да балам. Он замкнулся в своем семейном кругу, жил в рамках умеренности и, как исторический курьез, назначил своим подданным число блюд по чинам и сословиям, но не свыше трех.
Вся народная Россия знала о том, как «на весь свет пыжится» богатое дворянство. Такие купцы, как Жарков да Крохин из Казани, деньгу берегли, каждый грош пускали в оборот, своим приказчикам внушали: «Ты узоров-то глупых с дворян-кутилок не бери, ты человеком должен быть честным, бережливым. Ежели невеста тебе люба, веди в церковь, а пировни там разной не задавай, в этом один грех да изъян». Купечество относилось к «дворянам-бездельникам» с презрением, крестьянство – с лютой ненавистью: «Баре оладьи со сметаной да сало с салом жрут, а нам собачий хвост сулят». Но кому пожалуешься? Прежде мужик нес свою обиду Богу, ныне – новоявленному мужицкому царю.







