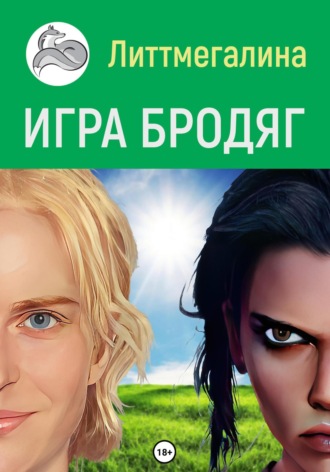
Литтмегалина
Игра Бродяг
Глава 13. Воздаяние
Звали его Кайша. Он родился в стране, где солнце чаще сжигает, чем греет. Он был сыном жреца, но должен был держать это в секрете, потому что жрецам запрещено вступать в плотские связи, следовательно, никаких детей у них нет. Раннее детство он прожил с матерью, позже был продан храму и так оказался рядом с отцом. До того, как переселиться в храм, Кайша видел отца несколько раз, когда тот по ночам бывал у матери. Отец, вечно смердящий протухшей кровью, ему не нравился. И если с вонью Кайша постепенно свыкся, то к остальным недостаткам притерпеться не смог: глаза у отца были до того пустые, что в них смотреть было страшно, а речь так неразборчива, что едва ли удавалось понять хоть слово. Впрочем, последнее не мешало отцу Кайши в повседневной жизни, так как он был младшим жрецом и красноречия от него не требовалось – подержать чьи-то дрожащие ноги во время жертвоприношения можно и молча.
Кайша прожил в храме уже год. Ему исполнилось пять. Он был тихий, спокойный мальчик, и, как у каждого из семи детей, приобретенных храмом, у него были свои обязанности. Он должен был:
– сметать с широкой лестницы песок, нанесенный просителями к Жаад (не менее десяти раз от восхода солнца и до наступления темноты; нельзя держать дом богини в грязи, потому что, рассердившись, она погрузит в вечную тьму мир грешников);
– кормить маленьких собачек нуу-нуу, нагуливающих жир к очередному празднеству;
– и – главная его обязанность – следить за тем, чтобы цветы возле статуи Жаад всегда были свежими.
Эти дела отнимали каждую минуту его жизни. Кайша знал, что однажды, повзрослев и набравшись опыта, он станет жрецом, как его отец, однако такое будущее совсем не влекло его. Он не понимал, зачем все эти люди приходят к богине Жаад, зачем просят ее помочь им пережить их беды, если помощи с ее стороны ждать бесполезно. Потому что богиня не добрая. Добрая богиня не станет погружать весь мир во тьму только лишь потому, что на лестнице залежалось несколько песчинок, ведь так?
Коротколапые собачки нуу-нуу путались под ногами и норовили укусить его за голени; маленькие зубки нуу-нуу были не так страшны, но длинные нити липкой слюны, остающиеся на коже, неимоверно раздражали Кайшу. Но более всего его злили цветы. Как сохранять их свежими, когда воздух дрожит и плывет от жара? Он заменял увядшие цветы крепкими и яркими и шел подметать лестницу. Он торопился, но лестница, казалось, была в тысячу ступеней длиной, а потом он мчался к цветам, а они лежали мягкие, бледные и мертвые (это Жаад, думал он, забирает их жизнь; если просто оставить цветы на полу, они увянут не столь быстро, он уверен). К этому моменту проголодавшиеся нуу-нуу уже начинали скулить… И так день за днем, следующий неотличим от предыдущего, как песчинки в пустыне.
Кайша мечтал вырваться из храма и этой страны, засыпанной песком, угнетаемой солнцем и богами, и он знал, как это сделать. Лишь одно препятствовало осуществлению его мечты: у него не было денег. Ни монетки. А их нужно было много – трудно и сосчитать, сколько. Где маленькому мальчику, которому даже не позволено выходить на городские улицы, взять много денег? Кайша не знал, и, наверное, никто бы не знал на его месте. И вот он думал и думал, думал и думал, думал и думал, где бы раздобыть их – когда сметал песок с лестницы, когда бросал куски тухловатого мяса обступившим его собачкам нуу-нуу и когда менял увядшие цветы на свежие.
Его сон стал беспокойным и прерывистым. У него появилась привычка просыпаться задолго до рассвета. В эти смутные часы на грани дня и ночи он был свободен от обычных забот. Много, много, много ступенек, и цветы увядают, и нуу-нуу скулят; иногда у него возникало желание быть одним из нуу-нуу, чтобы только наполнять едой свой круглый живот и ничего не делать, но он сразу вспоминал, что всех их съедят в первый праздничный день. Хоть это и запрещалось, но в предрассветном мраке некому было проследить за ним (если только Жаад или другим богам – если б они существовали, конечно), и Кайша спускался по каменной лестнице, в которой гораздо меньше ступеней, если просто идти по ней вниз, а затем проходил по песчаной дороге и вставал у улицы, не решаясь далеко уходить от храма. Ему следовало соблюдать осторожность. Жаад не может сообщить о его проступке, но кто-то другой может, и тогда его кровь прольется на цветы богини, как проливается на них чья-то кровь каждый девятый или праздничный день.
При отсутствии дневного шума он мог слышать, как суетятся корабельщики в гавани. Впрочем, изредка ему удавалось расслышать их и среди дня. Долетающих до него отдельных звуков хватало, чтобы он мог представить, какое там все: корабли приходят, уходят, что-то разгружают, что-то грузят, переругивания, смех… Как его влекла вся эта суета, а еще больше – темное, огромное море, про которое ему только и было известно, что это очень много воды…
Люди были редки в столь ранние часы. Никто из них не обращал на него внимания – вопреки опасениям Кайшы, что кто-то может узнать в нем храмового мальчика и рассказать Старшему Жрецу о том, как он стоял у улицы в вязком синем мраке. Несколько раз среди прохожих он замечал настороженных, невыразимо странных мужчин, чей светлый тон кожи не мог скрыть даже плотный загар. Кайше доводилось кое-что слышать об иноземцах, поэтому он не испугался, увидев светлокожего человека впервые, а только вытаращил на него глаза. Тот тоже зыкнул в ответ, сначала сердито, но потом даже улыбнулся, и Кайша подумал, что к светлым людям можно относиться с чуть меньшей опаской, чем к смуглым, которых он изучил хорошо и которых начинал считать последними людьми на свете, пусть даже сам был одним из них.
И каждое утро он видел мальчика чуть постарше его самого. Мальчик нес сосуд с водой, из которого торчали бело-розовые головки цветов, точно таких же, как те, которые Кайша клал у каменных ног Жаад. Однажды Кайша окликнул мальчика и заговорил с ним. Мальчика звали Хашу, он нес цветы на продажу. Цветы выращивала его мать, и деньги, вырученные за них, Хашу должен был отдавать ей.
– Зачем ты продаешь цветы? – спросил Кайша. – Храмы выращивают их вдоволь.
Хашу все объяснил. Он разговаривал любезно – то ли проснулся в тот день в хорошем настроении, то ли чутье подсказало ему: больше не придется вставать в проклятую рань и тащиться куда-то с цветами за просто так, не получая за труды не только ни монетки, но даже и слова благодарности. До сих пор Кайша не догадывался, что люди не всегда просят Жаад о помощи в храме, тем более если тревожащая их проблема не столь уж велика. Вместо этого они могут обратиться к маленьким статуям богини, которые держат у себя дома. Как известно, без подачки богиня и не почешется, вот потому-то – чтобы уже на рассвете Жаад могла получить свой цветок – Хашу, зевая, тащит сосуд на площадь.
Кайша выслушал все это с интересом. В доме матери Кайши никаких статуй не было, там и еда-то не всегда была, только грязь везде и расстеленное на полу одеяло, на котором они спали, если не приходил отец или кто-то другой – в этом случае Кайшу выставляли на улицу. В отношении комфорта и сытости его нынешнее житье было куда предпочтительнее жизни в родном доме. Что, однако, не отменяло отчаянного желания вырваться из храма.
Кайша недолго раздумывал. Начиная со следующего утра Хашу нес на продажу больше цветов, чем обычно. Он по-прежнему отдавал восемь монет матери, но кроме них у него оставались еще четыре, запрятанные под пояс. Две он оставлял себе, две вручал Кайше – каждое утро тот стоял в предрассветном мраке у улицы, ожидая того краткого, едва уловимого момента, когда чуть влажные, нагретые ладонью Хашу монеты окажутся в его пальцах.
Кайша не был так глуп, чтобы отдавать Хашу цветы там же. Для этого они присмотрели уединенное местечко позади храма. Каждый раз, когда Кайша волок тяжелый кувшин с цветами к ограде, его смуглое лицо белело от страха, хотя никто из жрецов еще глаза не продрал в такую рань, а ограда заслоняла его от взгляда с улицы. Подхватив цветы, Кайша с обезьяньей ловкостью взбирался по ограде и передавал их Хашу, после чего возвращался в спальню и ложился на свой соломенный матрас, чтобы чуть позже встать вместе со всеми. Дети при храме спали крепко, утомленные тяготами дня, и никто не замечал его блужданий. Единственный, кто мог представлять для него реальную опасность – это его собственный отец, порой ускользающий из храма чтобы провести пару относительно приятных часов в том утлом жилище, где Кайша проживал ранее. Впрочем, отец возвращался со своих отлучек гораздо раньше, вскоре после полуночи.
Если бы Кайша верил в Жаад, он бы побоялся красть ее цветы, но он в нее не верил и порой позволял себе ухмыльнутся прямо в ее жестокое некрасивое лицо, пока менял увядшие цветы на свежие.
«Я украл твои цветы, Жаад, и снова буду красть завтра. Я хотел бы, чтобы тебя не было, Жаад, и чтобы твои люди отпустили меня».
Жаад смотрела на него с ненавистью, но какой вред могла причинить каменная статуя? «Разве что рухнет на меня сверху», – думал Кайша и тихо хихикал, подметая лестницу – прочь, песок, прочь, и прочь все это глупое стадо, которое притащило тебя с собой.
Поначалу Кайша брал цветы понемногу. Но потом он осмелел и волок к ограде уже целые охапки. Хашу было бы тяжело нести столько цветов, но чем больше монет было с ним на обратном пути, тем легче цветы казались ему по пути туда. А Кайша вышагивал к ограде, уже особо не таясь – ведь прошло столько времени, а его не поймали. Каждое утро он получал уже по четыре монеты, порой даже по пять, а один раз – семь. В каждом сне он видел себя свободным. Скоро, совсем скоро он будет вознагражден за все его рискованные усилия!
Или же наказан за проступки…
Однажды Кайша предупредил Хашу, чтобы тот не ждал его утром и что цветов у ограды не будет – его охватило тревожное предчувствие, и Кайша решил к нему прислушаться. Не напрасно.
Вечером следующего дня все жрецы, помощники жрецов и дети храма покорно выстроились в шеренгу пред грозным взглядом Старшего Жреца. Кайша догадался, что утром они попытались проследить, не принесет ли кто цветы, и похолодел, едва представив, что было бы, не прислушайся он к своей интуиции. Цветы пропадали. Это было очевидно, это было бесполезно отрицать. И – разумеется – в первую очередь подозрения пали на того, кто так часто прикасался к ним, меняя увядшие на свежие.
«Но ведь любой мог взять цветы, не так ли?» – жалобно спрашивали глаза Кайши, глядя в глаза Старшего Жреца, когда Кайша стоял перед ним, сжимаясь и дрожа от страха. Однако то, что он различил во взгляде Старшего Жреца, мгновенно его успокоило.
Старшему Жрецу было все равно, кто ворует цветы Жаад. Он только хотел, чтобы кражи прекратились, потому что они стали слишком заметны, чтобы продолжать их игнорировать. Старший Жрец был стар, у него было много забот помимо цветов (возможно, не так уж и много, но и те, что есть, утомляли его до крайности). Кроме того – Старший Жрец тоже не верил в Жаад.
«Обвини меня, – ошеломленно подумал Кайша. – А затем я всем расскажу то, что понял о тебе». Это была отнюдь не умная мысль; умная мысль пришла следующей.
Кайша развернулся и указал пальцем на своего отца.
– Это он, он продает их. Я видел, как он отдает цветы какой-то женщине. Иногда по ночам он надолго уходит к ней.
Старший Жрец обратил взор на Кайшу, и тот понял: Жрец догадался, по какой причине выбор пал на этого человека. Потому что отец Кайши плохо говорил. Особенно когда волновался. Никто не понял ни слова из того булькающего потока оправданий, что он извергал из себя, пока его уводили прочь. Хотя Старший Жрец не верил в справедливость обвинения, он был рад, что ему не придется утруждать себя долгими разбирательствами. Какая разница, кто виновен, лишь бы цветы не пропадали в таком количестве, что это привлекает внимание.
Однако на них смотрело такое количество вопрошающих глаз, что Старший Жрец был вынужден осведомиться:
– Почем же ты не доложил о преступлении раньше?
К тому дню Кайше уже исполнилось шесть. Даже для своего возраста он был очень маленького роста и при ответе ему приходилось задирать голову вверх. Глаза у него были огромные, светло-карие, пожалуй, даже золотистые. Это позже они стали бурыми, как сухая земля. Кайша знал, как ему следует ответить:
– Потому что подумал: богиня Жаад сама накажет вора.
Он был воплощенная искренность, сама наивность. Только такой маленький мальчик, как он, может решить, что Жаад снизойдет до самоличной расправы над мелочевкой вроде воришки-жреца. Но однажды – когда чуть-чуть подрастет – он станет отличным жрецом. При такой-то силе веры.
Кайша так никогда и не узнал, что сталось с его отцом. Едва ли они ограничились тем, что отрубили ему голову. Он усвоил главное – и больше никогда не получал от Хашу больше двух монет за раз.
Когда ему исполнилось десять, он сбежал из храма. Просто однажды не вернулся на рассвете, чтобы подняться с другими мальчиками.
Вечером того же дня Кайша подошел к женщине, торгующей нарядными тканями.
– Хозяин велел передать всю выручку мне, – сказал он ей.
– С чего это вдруг? – насторожилась женщина.
– Потому что плохо себя чувствует и сам не может прийти за деньгами.
Женщина все еще сомневалась, но глаза у Кайши были золотистые и сам он был такой серьезный, хотя и не вышел ростом. Что-то в нем заставляло ему довериться – соскользнуть по золотой спирали в липкую ловушку из расплавленного янтаря.
– Он упал с большой лестницы в своем доме и расшибся, – пояснил Кайша.
Вот тут она поверила, ведь ее хозяин (что несложно предположить) был достаточно состоятелен, чтобы жить в доме с лестницей (в Кшаане обожают лестницы, их строят где надо и где не надо, ибо лестницы – путь к богам).
Кайша забрал выручку и ушел. Он порядочно устал за тот вечер, но с седьмой попытки у него получилось; три женщины задавали слишком много вопросов, две не поверили и прогнали его, а одна направилась к хозяину самолично.
Спустя час Кайша и Хашу уплыли на корабле, уплатив положенную сумму – вот для чего им были нужны деньги. Кораблем правил белокожий капитан – потому что такому же кшаанцу, как он сам, Кайша ни за что бы не доверился. Он не хотел спустя полчаса после отплытия оказаться в соленой (он узнал, что она соленая; он сам попробовал ее на вкус) морской воде со вспоротым брюхом и выколотыми глазами.
На этом, собственно, история Кайши и заканчивается. Через два года Хашу был убит, но в этом не было вины Кайши. Это сделал некто, называющий себя другим именем.
***
Все это пронеслось перед Наёмницей в одно мгновенье. Она удивленно потерла глаза, и море, его вздымающиеся волны, угасли в окружающей тьме. Увиденное оставило ее растерянной и опечаленной.
– Я понимаю, почему ты так поступил, – сказала она. – Они кажутся разными, но в целом схожи, эти истории…
– Какие истории?
– Истории о том, как мы заблудились.
– В страшном лесу?
– Кто где.
– А как ты заблудилась?
Наёмница пожала плечами. Кажется, этому жесту суждено стать для нее типичным, учитывая, что последние события не вмещаются в воображение и не натягиваются на здравый смысл. Порой она впадала в такую растерянность, что едва понимала собственные мысли.
– Это запрятано так глубоко в моей памяти, что я не могу дотянуться. Однако, заглянув в твое прошлое, я вдруг увидела собственное отражение… – Наёмница чуть пошевелилась, опираясь на ногу, чтобы не повалиться вместе с увечным стулом.
– В чем мы схожи? – поинтересовался Намбо.
– Знаешь, я ведь никогда не считала себя плохой. Все вокруг плохие, а я только защищаюсь, делаю лишь то, на что они меня вынудили. Я была… эхом… – произнесла она медленно, не понимая, отчего это слово вызывает в ней тоскливую боль. – Не злая и не добрая, просто повторяющая за другими. Я сама не замечала, что, теряя себя, становлюсь такой же, как они… В этом есть ужасная предопределенность: мы ожесточаемся, защищаясь, и вскоре уже другим приходится отбиваться от нас, так же озлобляясь при этом. Все повторяется, снова и снова. Бесконечная история…
Намбо молчал, но Наёмница слышала его взволнованное дыхание – как это странно, ведь в воздухе он больше не нуждался.
– Я надолго забыла о том, какой была прежде… а вспомнив сейчас, не могу понять, как сумела забыть. Я была такой растерянной, постоянно чувствовала страх… и удивление. Я не могла понять, как они могут так со мной поступать. Я искала смысл в их жестокости, но теперь думаю, что в ней не было смысла. Она служила единственной цели: излить на кого-то гнев, вызванный тем злом, которое когда-то причинили им самим. Мне было больно даже тогда, когда мне не причиняли боль, только потому, что жестокость существует, а я не могу с ней смириться. Я была так разочарована… это никогда не заживет. Меня терзали и разрывали; когда мне надоело терпеть боль от людей, я начала убивать их. Это сложно поначалу, а потом все легче и легче. Признаться, мне даже нравилось убивать…
Наёмница сгорбилась, чувствуя, как огоньки давней ярости разгораются по всему ее телу… Когда она уходила из Торикина, она была совсем юная. Из нее постоянно текла кровь, и она сгибалась от давящей боли, прижимая руки к животу. Иногда она садилась на тающий снег, думала, когда же это кончится и не сдохнет ли она раньше, и чередовала дыхание с всхлипываниями. Что ж, у всех случаются неудачные дни.
– Мстить им за то, как они со мной поступают, а затем мстить себе за то, какой я стала, этим пачкая себя еще больше. Но гнев и ненависть невозможно выплеснуть из себя без остатка. Они не гаснут, лишь тлеют, дожидаясь первого порыва ветра, чтобы снова разгореться, причиняя новые ожоги – пока однажды не поймешь, что внутри тебя все выжжено. В какой-то момент я решила убить себя. Я ничего с собой не сделала, но начала покорно дожидаться тех, кто выполнит неприятную работу за меня. Почему я просто сдалась, почему не попыталась излечить себя? Не понимаю, – Наёмница положила ладонь на свой горячий лоб. – Наверное, я боюсь снова оказаться беспомощной.
– Беззащитной? – тихо, очень осторожно спросил Намбо. – Ты это хотела сказать?
– Нет. Да, – заставила себя ответить Наёмница. Она ухмыльнулась и продолжила безразличным тоном, хотя горечь распустилась в ней ядовитым цветком: – В то время, когда я стала злой, я будто одеревенела. Меня больше ничего не могло ранить. Происходящее перестало казаться мне неправильным. Мы убиваем друг друга, жестоки друг к другу – все так, как и должно быть.
– А что ты думаешь сейчас? – спросил Намбо.
– Не знаю. У меня в голове все перепуталось… Со мной так много всего случилось за последние дни, я не понимаю и половины из этих событий… хотя, пожалуй, я понимаю все… – с минуту она сидела без движения и молчала, хотя внутри все кипело. Потом выпалила, вытирая глаза: – Мне так грустно – из-за меня самой, из-за тебя. Что мы стали частью всего этого. Что мы не справились.
Ей хотелось бродить от стены до стены, чтобы хоть как-то успокоить тоску и ярость, взметнувшиеся в ее душе, но все, что она могла сделать, – это встать и спустя пару шагов сразу споткнуться обо что-то.
– Проклятье! Да откуда здесь весь этот хлам?!
– Полагаю, когда-то на этом месте был жилой дом, – терпеливо объяснил Намбо. – В ходе строительства тюрьмы дом был разрушен или надстроен. Но несколько подвальных помещений уцелело. Те, что были расположены на самой глубине… Мы под землей сейчас. Глубокая могила, – Намбо помолчал. – В этом есть что-то печальное – дом сменился тюрьмой. Я думал об этом, умирая.
– Тебе было страшно? – спросила Наёмница, на секунду позабыв свой собственный страх.
– Наверное. Но мое умирание не продлилось долго – когда они бросили меня, я был уже почти мертв – в моем теле не осталось ни одной целой кости. Я лежал, истекал кровью и думал о всякой ерунде. А затем вдруг осознал, что боль прекратилась. Не веря своим ощущениям, я попытался подняться, и мне удалось это сделать без каких-либо усилий – тело потеряло вес… В первый момент меня обрадовало случившееся – я не мертв. Но вскоре осознал, что я и не жив… Мне никогда не приходило в голову, что, превратив всю мою жизнь в ложь, я превращаю в ложь и свою смерть, – Намбо всхлипывал от отчаяния. – Теперь я не могу успокоиться, не могу исчезнуть. Мне нет места в мире живых и нет в мире мертвых, и я остаюсь там, где я есть – навсегда заперт в этих стенах, схожу с ума от тоски. Тюрьму разрушат века, но я по-прежнему буду бродить по руинам. Вечность. Я повторяю себе: «Ты мертв, теперь ты можешь успокоиться» – но после всей моей лжи не могу себе поверить.
– Мне жаль тебя… – произнесла Наёмница настолько тихо, что едва себя услышала. Даже если эти слова не были правдой в момент, когда они были произнесены, они стали правдой в следующий, и сострадание хлынуло сквозь нее, как река.
«А ведь я так долго была безжалостна, – подумала Наёмница. – Я была как камень…»
Теперь этот камень кровоточил.
– Только правда спасет меня, какой бы невыносимой она ни была, – прошептал Намбо. – Но как мне разыскать ее?
– Правда… – рассеянно повторила Наёмница. – Невыносимая правда… – ей вдруг припомнилось то распирающее чувство страха, что возникало в ее животе, стоило ей бросить взгляд на конверт. Чего плохие люди боятся больше всего? Узнать, какую мерзость они из себя представляют. – Что… – голос прозвучал сипло, и она прокашлялась. – Что, если я ношу правду с собой?
Запустив руку под рубаху, она вытащила конверт. Провела пальцами по гладкой бумаге, но не ощутила прежнего ужаса. Значит ли это, что письмо больше не предназначается ей? Почему? Что она изменила? Или что-то изменилось в ней? Она стала менее плохой?
– Я… я… – Наёмница облизала вдруг пересохшие губы. – Кайша… я думаю, это тебе.
Намбо замер, и Наёмница услышала его свистящее дыхание.
– Возьми письмо, – сочувственно поторопила Наёмница. Она отчасти жалела, что потеряла шанс узнать все о себе. Даже то, что окажется совершенно невыносимым. Впрочем… только отчасти.
Когда призрачные руки коснулись конверта, тот надорвался сам собой… Наёмница ошиблась – это письмо можно было прочесть и в полной темноте. Буквы сияли столь нестерпимо ярко, что она закрыла глаза.
– Прежде, чем я прочту его, – торопливо заговорил Намбо, – я должен признаться тебе… Я солгал, утверждая, что отсюда нет выхода. Я обнаружил его после… с моим измененным зрением… когда было уже поздно. Я умер, лежа прямо над тайным ходом, так и не узнав, куда он ведет, – он рассмеялся.
Наёмница жадно выслушала его объяснения, а затем Намбо затих, читая письмо. Она услышала его горький, тоскливый плач, а затем смех, отдаляющийся с каждой секундой… и Намбо пропал. Письмо еще с минуту реяло в воздухе, озаряя тьму истиной, а затем с тихим хлопком исчезло и оно.
Куда отправляются души умерших? Где они обретают покой? А письмо? Куда устремилось оно? Увидит ли кто-либо еще этот старый конверт с красной сургучной печатью? «Вряд ли, – ответила себе Наёмница. И затем: – Может быть».
***
Выход. Если верить Кайше, он располагался где-то здесь, хотя сама идея туннеля, устремляющегося из подвальной комнаты вниз, казалась абсурдной. Несомненно, процесс прокладывания туннеля был трудоемким и сопряженным со многими сложностями. Наёмница и представить не могла, зачем кто-то стал так заморачиваться. Разве что у него была очень важная цель…
Сейчас ей уже казалось, что весь этот хлам, загромождающий подвальную комнату, был притащен сюда не просто так, а с целью утаить наличие колодца. Сдвигая предметы один за другим, она ползала на коленях, ощупывая земляной пол. Эх, вот бы ей видеть в темноте, словно какой-нибудь ночной зверек…
Где-то в подвале должен находиться труп… Наёмница сморщила нос от усиливающейся вони и начала двигаться осторожнее. Вскоре она действительно нашла тело. Маленькое, свернувшееся в клубок, покрытое жесткой шерстью… крыса. Вероятно, те же щели, что позволяли воздуху проникать в подвал из верхней части здания, позволили крысе протиснуться. Далее она либо разбилась при падении с высоты потолка, либо же просто погибла от голода. Странно, что тело Кайшы отсутствовало – значит ли это, что его история о гибели в подвале тоже была враньем? Так кем же он являлся? Блуждающим призраком, не осознающим собственной смерти? Голова идет кругом. Наёмница осторожно сдвинула крысиную тушку носком ботинка и продолжила разгребать завал.
Утомительная работенка – перетаскивать тяжелые вещи, к тому же в полной темноте. Наёмница вся взмокла и уже начала понемногу отчаиваться. Стоило ли слушать окаянного лгунишку? Не успела она перейти к более весомым оскорблениям, как, сдвинув нечто прямоугольное и тяжелое, обнаружила доски, выстилающие пол. Сквозь щели меж досок веяло сквозняком. Замирая от волнения, Наёмница приподняла крайнюю доску настила. Та основательно прогнила за столько лет и буквально рассыпалась под пальцами. Приподняв вторую доску, Наёмница обнаружила под ней краешек широкой круглой ямы.
Опустив голову, Наёмница заглянула в щель, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть. Там был свет, серебристо-синий прозрачный свет; воздух, исходящий из колодца, определенно нес в себе свежесть надземного мира. Наёмница нырнула бы в колодец, словно рыбка в пруд, если бы не опасалась сломать себе шею. Насколько он глубок? Что там может быть? У Наёмницы вспотели ладони от любопытства и нетерпения, и она вытерла их об одежду, размазывая грязь. Она приподняла еще одну доску и отбросила ее. Свет, вливающийся в расширившуюся брешь, подсветил бледно-голубым ее чумазое лицо с выражением крайнего изумления.
– Это здорово! – прошептала Наёмница, испытывая сильный приступ головокружения. – Ну просто с ума сойти!
В колодец спускалась веревочная лестница, не заслуживающая никакого доверия, если учесть, до какого состояния дошли доски. Однако выбора у Наёмницы не было. Она надеялась хотя бы не разбиться в лепешку.
Она цеплялась за край колодца столько, сколько ей позволяла длина рук. А затем пришлось доверить лестнице всю тяжесть своего тела. Лестница держала. «Невероятно» – успела обрадоваться Наёмница, как услышала тихий хлопок разрывающихся нитей. В последний момент она успела ухватиться за веревку выше разрыва, но рука сразу начала соскальзывать. Кратко, но выразительно прокомментировав текущую ситуацию, Наёмница полетела в серебристое, ожидающее ее сияние, тщетно пытаясь зацепиться за гладкие стенки туннеля.
Круглая темная труба колодца мгновенно закончилась, Наёмница зажмурилась, ослепленная светом, и рухнула прямиком на что-то мягкое и пружинящее. Упруго отскочив, словно мячик, она слетела с края, умудрившись со свойственной ей акробатической ловкостью ухватиться в падении за некую жесткую перекладину (ветка?). Ступни заболтались над пустотой.
– Что это?! – воскликнула она, как только ее глаза попривыкли и снова начали видеть.
Место, где она оказалась, походило на лес. Под землей. Вот только вместо деревьев здесь был огромные растения, некоторые из которых увенчивали цветочные чашечки чудовищных размеров, тогда как листья были размером с Наёмницу. Растения сияли, будто отлитые из серебра – именно их свет Наёмница и увидела сверху. Располагайся Наёмница с несколько меньшим риском для жизни (то есть горааааздо ближе к земле), она бы рассмеялась от удивления. Или бы заплакала от восторга. Но на данный момент ей пришлось стиснуть зубы и задуматься о том, как бы ей спуститься, не добив себя при этом окончательно, ведь руки уже начинали соскальзывать, а раненое плечо отчаянно выло.
То, что она поначалу приняла за дерево, оказалось высоченным цветком, на вид очень напоминающим те, что Наёмница видала растущими среди сорных трав: с соцветиями из мелких белых цветочков. Вот только здесь «мелкие» цветочки превосходили размером ее голову. От основного «ствола» расходились более тонкие стебельки. Ну как, тонкие – каждый с ее бедро толщиной. Тот «прутик», за который ей посчастливилось зацепиться, даже не прогибался под ее весом. Что ж, проблем не возникнет.
Перебирая руками, Наёмница добралась до центрального стебля, обхватила его ногами и невозмутимо съехала вниз. К счастью, трава под ногами была обычного размера и не препятствовала перемещению. Земля оказалась мягкой, влажной и пахла как пирог. Наёмница упала на четвереньки и почти коснулась земли носом, принюхиваясь. Действительно, как пирог, хотя запах и очень слабый. Наёмница вдруг осознала, что невероятно голодна и до крайности устала.
Вероятно, оказавшись в столь странном месте, ей стоило как минимум держаться настороже. Вместо этого Наёмницу захлестнула волна безмятежности. Подчинившись неудержимому желанию расслабиться, она легла на землю, вытянув ноги и разбросав руки, ставшие вдруг мягкими, как тряпки. Это было чистое блаженство, благодать. Ее тело, на котором небитых мест было меньше чем битых, привычно ныло, но сейчас эта боль ослабевала, уходила в землю. Наконец-то она в безопасности! Торикинские невзгоды, тюрьма, зловонный темный подвал – все позади. В светлом божественном убежище она нашла спасение от ужасов человеческого мира… Из глаз Наёмницы потекли слезы. Еще никогда ей не было так хорошо и спокойно. Ей наконец-то стала понятна Вогтова извечная тяга к природному миру. Сейчас она черпала из этой земли силу.
Она лежала час, а может и дольше. Где-то шелестела и плескалась вода. Наёмница поднялась на ноги, ощущая себя перерожденной, и пошла к этим звукам, даже не взглянув в последний раз на черную дыру туннеля высоко над ней.
Путь ее шел по склону; по пути она дотрагивалась до растений. Широкие листья были прохладными и так же пахли очень приятно. Капли росы, такие огромные, что едва поместились бы в ладонях Наёмницы, ярко мерцали, пронизанные светом, исходящим от растений. Если слегка встряхнуть лист, капли проворно, словно живые, соскальзывали на землю и мгновенно впитывались в нее. Одна из них скатилась на лицо Наёмницы, когда та неосторожно потянула высокорастущий лист вниз. Наёмница фыркнула, помотала головой и улыбнулась. На вкус вода, смочившая ее губы, казалась чистейшей, и вскоре Наёмница уже пила росу, прикасаясь губами к сверкающим листьям. У нее не мелькнуло и мысли, что вода с поверхности странных светящихся растений может оказаться ядовитой. Всему здесь она доверяла без тени сомнения, как доверился бы любой зверь. Наёмница не могла знать, что это доверие всегда бежало по ее жилам, растворенное в ее крови.
Она спустилась вниз, затем поднялась на холм и с его вершины увидела окруженную сияющими растениями долину. Долину пересекал быстро мчащийся водяной поток. Вода… Волосы Наёмницы висели грязными космами, лицо и руки были черны от грязи. Она была не слишком привередлива в этом отношении, так как давно усвоила: барахтаясь в грязи жизни, не останешься чистой – во всех смыслах этого слова. У нее было достаточно ночей, когда она засыпала под хлещущим дождем, чтобы проснуться в луже, дрожа как жалкая собачонка (для тех, кому некуда спрятаться от непогоды, осень – жестокое время, впрочем, зима – безжалостна, а это тысячу раз страшнее). Другое дело, что она все-таки еще надеялась снова встретиться с Вогтом, и мысль, что он увидит ее такой (и, что еще хуже, учует) вызывала у нее странный душевный дискомфорт.





