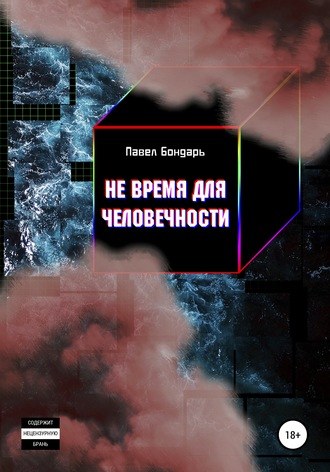
Павел Бондарь
Не время для человечности
Не-глава четвертая. Окончание
Только ограниченный человек загоняет в рамки то, об истинной природе чего понятия не имеет.
Неизвестный читатель журнала “Цепь” – своей собаке
Перед Питером открывались невероятные возможности, оставалось лишь определить их границы. Это он оставил до какого-нибудь более серьезного и подходящего случая, а пока что решил лишь немного убраться. Открыв перед Мэри-Кейт дверь и выпустив ее на улицу, он обернулся на пороге и повел двумя пальцами правой руки из стороны в сторону. Помещение начало преображаться с поразительной скоростью – исчезли мокрые следы с пола, стойка вновь наполнилась пирожными и откатилась обратно в свой угол, бутылки и чашки вернулись на свои места в баре, свеча восстановилась и оказалась там, откуда ее взял Питер – за барной стойкой, скатерть заживила дыры, прожженные сигаретами, и аккуратно легла на соседний столик. Питер уже закрывал дверь, когда услышал звон колокольчиков-ангелов. Последний штрих – по ту сторону двери сдвинулась защелка, и кафе пришло ровно в то состояние, в котором они его обнаружили. Питер бросил взгляд на вывеску и усмехнулся. Мэри-Кейт с любопытством наблюдала за происходившим внутри.
– Интересно, а как они туда вернулись?
– Кто?
– Пирожные. Они ведь вернулись обратно на подносы – как будто бы никто их не ел.
– Как ты думаешь?
– Ну, раз ничто не берется из ниоткуда, то они, видимо, пропали из наших желудков.
– То есть это была такая магическая булимия? И почему ты решила, что ничто не берется из ниоткуда?
– Ну это вроде бы закон сохранения энергии или что-то такое, разве нет?
– Что-то мне подсказывает, что Майер, Джоуль и прочие не брали в расчет вот такие вещи…
Питер взмахнул рукой, и перед ними, примерно в пяти шагах, возник серебряный занавес, колышущийся на ветру и издающий легкий, еле слышимый звон. За ним не было видно продолжения улицы, но виднелся мягкий желтый свет какого-то другого места. Мэри-Кейт подошла поближе, присмотрелась и поняла, что занавес соткан из снежинок – точнее, льдинок, принявших форму снежинок. Она в восторге повернулась к Питеру.
– Как ты это сделал?
– Я просто представил. Этого достаточно.
– А можешь делать это не руками, а просто мысленно?
– Да, только тогда это не так эффектно выглядит.
– Ну тогда создай себе какую-нибудь волшебную палочку. Будет еще эффектнее.
– Ничего вы, магглы, не понимаете в эффектности…
– Еще раз скажешь что-нибудь такое – и я достану из тебя какой-нибудь жизненно важный орган, волшебник.
– Ладно, я тебя понял. А из них можешь что-нибудь достать?
Питер махнул головой куда-то за спину Мэри-Кейт. Она обернулась и увидела восемь фигур, медленно приближающихся к ним с другой стороны улицы. Один из силуэтов – тот, что шел впереди, все еще немного дымился. По какой-то не известной Мэри-Кейт причине, теперь он, как и остальные, имел черты вполне различимые – это был высокий мужчина лет тридцати с длинными кучерявыми волосами. Во лбу у него зияла дыра от пули. Прочие тоже имели следы насильственной смерти – в основном пулевые ранения, но один из них выглядел как человек, которого очень долго пытали электричеством, а еще у одного в горле торчал осколок стекла. Мэри-Кейт все эти детали ничего не сказали, зато Питер почти сразу понял, кто эти люди и, самое главное, что им здесь нужно. Как раз то, чего он никогда больше не допустит.
Питер еще даже не сформулировал в голове свое пожелание, а вокруг восьмерых мертвецов уже возникла клетка. Это их остановило, но ненадолго – гости из космоса принялись рвать железные прутья руками. Клетку сменила яма, яму – стена из молний, затем просто каменная стена, но мертвецы всякий раз довольно быстро справлялись с преградой. Не помогало связывание, обезглавливание, расчленение, распыление – восемь фигур вновь и вновь восстанавливались и все так же неуклонно приближались. Питер устало вздохнул.
– Есть какие-нибудь идеи? Похоже, мое воображение иссякает.
– А ты не можешь просто куда-нибудь их перенести? Ну, в смысле телепортировать.
– И правда. Почему бы не попробовать?
В следующую секунду визитеры разом исчезли, оставив после себя лишь горелый запах.
– И где они теперь?
– В космосе. Они наверняка вернутся, но у нас есть время, чтобы придумать что-нибудь понадежнее. А вообще… Знаешь, во всех фильмах и сериалах о монстрах и прочем потустороннем дерьме всех неубиваемых чудовищ можно было убить специальным оружием, древним артефактом и так далее.
– И что, у тебя случайно завалялся в кармане Кинжал Судьбы или что-то такое?
– Нет, но я, кажется, знаю место, где Кинжалы Судьбы можно приобрести по сдельной цене. Пойдем.
Питер кивнул в сторону ледяного занавеса, за которым уже виднелись отсветы пламени, слышался треск камина и чьи-то шаги по старой деревянной лестнице, и они с Мэри-Кейт сделали шаг навстречу этим звуку и свету.
Не-интерлюдия пятая. Другие сказки
– Наверное, так приятно считать себя чем-то новым в мире. Думаешь, будто я никогда тебя не встречал? Отнюдь. Ты – лишь очередное искажение мелкой детали изначального замысла, новый виток старой истории, новый облик вечного архетипа. Я устал вас помнить.
– Наверное, скучно это – видеть все узоры истории разом. Даже не знаю, о чем можно поговорить с таким нудным стариком.
Страж и Лис
Его называли Головастиком, а ее – Шапочкой. Все всегда говорили, что они были похожи, как брат и сестра – нет, скорее даже как близнецы. Когда в приют два года назад приезжал Санта, он вручил им подарки и шепнул, что знает один секрет, который не расскажет никому, кроме них двоих. Но для этого, сказал он, им нужно потерпеть еще год – он снова приедет сюда, и они все узнают. Тогда они еще были детьми, и их можно было легко впечатлить такими словами, так что целый год они даже и не думали ни о каких побегах, да и вообще вели себя сравнительно неплохо – их даже почти не называли сатанятами. Но в следующем году у приюта не оказалось денег на Санту, как, впрочем, и на подарки для детей, так что маленьким обитателям большого серого здания нужно было в срочном порядке перестать верить в сказки. Но тут было две сложности.
Первая заключалась в том, что они уже не были к тому моменту детьми. Ни сатанята, ни другие. За несколько месяцев им пришлось или быстро повзрослеть, или… То, что случилось с Плаксой, стало для всех очень наглядным примером, и даже самые незрелые и инфантильные из них понимали, что их ждет, если они не смогут вписаться в переменившиеся правила. Большинство, к счастью, нашли свое место в этой новой картине их маленького мира, об остальных же было негласно решено не говорить, не вспоминать и даже не думать.
Вторая сложность была связана с верой в сказки. К следующему Рождеству ни Дофин, ни Клио уже не верили в те сказки, что им навязывали взрослые. Санта, Большие Страшные Серые Волки, Снежные Королевы, Золушки и Синие Бороды отошли куда-то далеко, перейдя в разряд “да, я помню эту забавную историю для маленьких детей”, а на первый план выдвинулись те сказки, которые обитатели приюта сочинили сами – под влиянием всего, что происходило в этом жутком месте и, в каком-то смысле, за его пределами. Новые сказки были намного мрачнее всего, что когда-либо сочинили братья Гримм или Гофман, и они были слишком странны, чтобы о них можно было рассказать тем, кто считался в приюте “взрослыми”. Новые сказки испугали бы любого, кто не провел в этом месте большую часть своей жизни, впитывая местные мифы, законы и чудеса.
И, конечно же, никто в них не поверил бы. А зря.
Потому что, когда в одном месте запирают сотни несчастных, одиноких, странных и искалеченных жизнью детей, имеют обыкновение происходить удивительные вещи. Воображение – опасная штука, если не знать, как правильно им пользоваться. Когда у тебя нет почти никакой связи с миром, а все, что есть – это такие же дети рядом с тобой, не остается ничего, кроме как раскрывать друг другу собственные, внутренние миры, сочиненные прямо здесь, на ходу. И каково же твое удивление, когда ты замечаешь, как много в ваших фантазиях общего. Нет, это не мечты о побеге обратно, в большой и настоящий мир, не воспоминания о семье и том далеком времени, когда еще не было одиночества, не общие для всех культурные коды и мифы. Это странные, никем ранее не виденные картины и места, истории, которые никто до этого никому не рассказывал. Как они могли совпадать? Ответ был только один: было что-то общее, что заставляло всех детей видеть одни и те же образы. Маленькие заключенные быстро догадались, что если отбросить все различия, то те детали, образы, символы, идеи и сюжеты, что останутся – общие для них всех – и есть то самое неизведанное, откуда потусторонний ветер несет свободу в бетонную клетку.
И когда все они начинают одновременно и искренне в это верить, относясь к новому миру с детской серьезностью, он действительно появляется, проступая из пустоты странными и манящими очертаниями. Если бы персонал приюта понимал, что куда опаснее запирать их в комнатах, запрещая носиться по коридорам и залам, если бы только эти наивные взрослые знали, что происходит в кажущейся тишине, когда дети лежат на койках и, глядя – кто в потолок, кто – в доски двухэтажной кровати, разговаривают о том, каким им видится мир вокруг, то они бы никогда больше не оставляли их без присмотра. Ни на секунду. Но было уже поздно, и этой осенью случилось слишком много странного и страшного, чтобы выдуманный мир, в последний раз подпитавшись так ярко вспыхнувшими детскими эмоциями, не воплотился в жизнь, вырываясь из воображения и сходя со страниц секретных газет и дневников, стекая чернилами со стен, оживая из звука голосов, влагой поднимаясь из подвалов и осыпаясь пылью с чердаков. Приют перестал быть “детским” и стал просто приютом – местом, где можно укрыться. Домом, крепостью, логовом. И хозяевами в нем были те, кто больше не желал сбежать отсюда. А первыми среди равных были в том числе и они, кто прежде настойчивее остальных пытался покинуть тюрьму – Дофин и Клио, давно уже переставшие быть Головастиком и Шапочкой.
Возможно, все поменялось в тот день, когда они нашли книгу зелий, возможно, в тот, когда окончательно прицепились новые прозвища, а может – в тот, когда ушел Лемур. Как бы то ни было, в один из осенних дней все резко переменилось, и странные истории, которые они воплощали в жизнь годами, стали жуткой, извращенной реальностью, предъявившей им свои правила. В новом мире выше всех поднялись те, кто лучше умел делать вид, что это он управляет Выворотом, а не наоборот. Сатанята еще с детства были хорошими притворщиками.
Сегодня было Рождество – первое в приюте Рождество, когда дети отказались от устроенного администрацией заведения скудного, но все же праздника. Они, само собой, не отказались от праздничного ужина, но в холле было на удивление пусто по сравнению с прошлым годом – никто не развешивал над камином чулки, не пел песен и не пытался улучшить елку собственными вещицами. Лишь иногда мимо проходили уже не дети, но подростки, куда-то ужасно торопящиеся, да на диване у окна спал Червь.
Был уже поздний вечер, и за окнами приюта давно погас последний луч скупого зимнего солнца, когда тишину нарушил звук чьих-то шагов. Тихий и ровный стук приближался к холлу, и через несколько секунд из одного из коридоров-кишок быстрым шагом вышел Ферзь. Он подошел к двери, за которой Рождество отмечали воспитатели, и прислушался. Удовлетворенный услышанным, Ферзь двинулся дальше, на ходу пнув Червя. Тот даже не шелохнулся, только засопел чуть громче.
Ферзь вошел в комнатку, которая через секунду превратилась в просторную гостиную – с креслами, диванами, темными углами и камином. Здесь уже собралось человек пятнадцать, все они сидели, лежали, стояли или висели вниз головой – и по очереди рассказывали истории. Это была игра, и правила у нее были такие: каждый рассказывает одну историю, а остальные пытаются угадать, откуда она – с Выворота или из воображения рассказчика. Тот, кто к концу игры угадал больше всех, получает право выбрать одну из историй и сделать ее реальной – если она была придумана, или изменить ее – если она произошла на самом деле. Это была очень опасная игра, и при определенном раскладе она могла закончиться для кого-то очень плохо, вплоть до смертельного исхода. Но почти никто из них еще не задумывался о таких вещах, кроме нескольких человек, включая Дофина. Тем страннее было то, что игру придумал именно он; однако сам в ней не участвовал. Ферзь уселся рядом с ним и принялся слушать. Сейчас был черед Чешира, и он рассказывал историю о художнике.
Этот художник писал прекрасные полотна – в основном пейзажи; и в каждом из них была одна небольшая деталь – человек, рисующий человека, рисующего человека. Это было его навязчивой идеей, и в какой-то момент он даже стал утверждать, что только таким образом – вновь и вновь включая себя в собственные работы – может оставаться живым, реальным. Концовка была ожидаемой – художник однажды все же написал картину, на которой не изобразил себя. И как только она была закончена, он исчез. Вполне в духе Выворота. Черед угадывать выпал Ферзю, и он оказался прав.
Клио рассказала историю о двух сестрах-принцессах, одна из которых была злой и жадной до власти. Она убила своих родителей и стала королевой, а сестру заточила в подземелья, где та годами томилась в темноте и одиночестве. Клио выдала лишь небольшая деталь – истории с той стороны обычно имеют окончание, которого не было в ее истории.
Количество выпитого росло, сюжеты становились несвязнее, но отгадать их происхождение от этого становилось только проще. Пока не настала очередь Анчара. Это был самый молчаливый и неприметный человек в приюте, и многие иногда просто забывали о его существовании – щуплый и низкий, в грязной серой рубашке и выцветших джинсах, с волосами, закрывающими лицо, он вечно ускользал от всеобщего внимания. Многие даже не подозревали, что его слово здесь значит почти так же много, как слово Дофина, во всем на него не похожего. Ферзь не рассчитывал, что Анчар станет участвовать, но вот уже его тихий, шелестящий голос заполнил комнату, заползая в каждое ухо. Но рассказывал он с трудом, словно нехотя, пересиливая себя – или подчиняясь какому-то обязательству. Все шепотки и шорохи смолкли, и последняя история звучала в полной, почти гробовой тишине.
Анчар рассказал о человеке без имени и лица, который заключил сделку с дьяволом, желая добиться любви девушки, без которой не мог жить. Но дьявол обманул его. Забрав душу, он извратил условия их договора и повернул все так, что человек в итоге потерял ту, кого любил, навсегда, как и малейший шанс когда-либо быть с ней. Но даже этого было мало, и человек, исчезнув из мира, вернулся в виде образа, перерождающегося раз за разом, в течение сотен лет – каждый раз теряя и душу, и свою любимую, которая трагически погибала вскоре после встречи с ним. Бога терзала такая ужасная судьба, и он решил спасти душу человека – проведя его по пути искупления. Но этот путь был исполнен страданий еще больших, чем те, на которые человека обрек дьявол, и человек каждый раз терпел поражение в схватке с судьбой, все плотнее увязая в жутком цикле перерождений, пока однажды, в четырнадцатый раз, что-то не пошло не так.
Когда Анчар рассказал концовку своей истории, объяснив, что это был за исход, Ферзь даже присвистнул. Да, это была неплохая задачка напоследок – и неплохой шанс выиграть сегодня у Двуликого, с которым у них было поровну отгаданных историй. Но, похоже, ни у кого не было уверенности в том, что же это – правда с Выворота или все же вымысел, рожденный в странной голове Анчара? Наконец Двуликий сказал, что верит в правдивость истории, но сказал он это как-то с сомнением. Теперь был черед Ферзя. Тот тоже склонялся к тому, что история действительно имела место где-то по ту сторону, и хотел уже было приступить к ставкам, но за секунду до того, как открыть рот, Ферзь услышал еле слышимый шепот у самого уха.
– Это вымысел. Но он должен стать правдой, иначе не случатся многие вещи, которые должны случиться. Верь мне, скажи, что это ложь. И воплоти ее в жизнь.
Шепот смолк, и только легкое шевеление справа выдало Дофина, с кошачьей ловкостью вернувшегося на свое место. Похоже, никто, кроме Ферзя, этого не заметил. Если уж Дофин рискнул грубейшим образом нарушить правила игры, значит, он действительно что-то знал, и этой действительно было очень важно. Что ж, по крайней мере, Ферзю не придется ставить на кон что-нибудь ценное. Он громко заявил, что считает историю Анчара вымыслом. Тот несколько секунд молчал, и Ферзю уже было показалось, что он видит на скрытом патлами лице очень неприятную улыбку – и это в полутьме, через всю комнату. Но наваждение прошло, и Анчар своим привычным бесцветным голосом сказал, что история действительно была выдумкой. Хотя Ферзю вновь почудилось кое-что странное – будто в конце фразы голос Анчара слегка дрогнул от напряжения или от… волнения? Дофин ободряюще ткнул Ферзя кулаком в бок и объявил победителя.
– Ну что, Ферзь, какую историю мы сегодня оживим? Или, может, приукрасим?
Все принялись выкрикивать свои и чужие клички и громко объяснять, чем же их истории достойнее других. Но Ферзь помнил о просьбе Дофина и, перекрикивая хор голосов, сказал, что решил сделать реальной историю Анчара. Через шум обсуждения, сквозь движущиеся по комнате силуэты Ферзь с Дофином заметили, как лицо Анчара, поднявшего голову, приобретает выражение злобы, смешной с ненавистью. Но прежде, чем он сумел что-то предпринять, Дофин демонстративно поставил печать Выворота в летописи историй под уже предусмотрительно записанной историей Анчара. Теперь с этим уже ничего нельзя было сделать – так работала магия той стороны.
Гостиная на секунду замерла, и пространство моргнуло, словно перестраиваясь. А затем мир просто продолжился, оставшись таким, каким он был.
Не-глава пятая
Возможно, суть нашего общества – именно во лжи. Лжи самой разной, от прямого обмана до притворства или молчания, но всякая из них – часть фундамента жизни человека. Мы не готовы жить правдой, однако идеализируем ее, очерняя всяческого рода неискренность. Думаем ли мы, что таким образом придем к идеалу, отбросив однажды лохмотья лжи, в которые укутываем свой мир? Даже если так, мы бесконечно наивны в своей вере, будто после всего, что было с нами, сможем мы отмыться от обмана. Обмана, ставшего неотрывной частью нас самих.
Неизвестный автор, “Ген смерти”
Я чувствовал себя неудачником, упустив Питера и девушку, не сумев их найти, не сумев уговорить дьявола пересмотреть условия сделки, не выяснив, что это за гость извне, который все знает и во все хочет вмешаться. У меня был и запасной план, но он казался полной чушью. Я шел по заснеженной улице, волоча на плече сумку с ноутбуком. Да, похоже, я раб своих привычек. Это предположение получило еще одно подтверждение, когда я обнаружил, что уже пять минут стою перед входом в бар и пялюсь на вывеску. Даже не пытаясь сопротивляться, я встряхнул головой и вошел внутрь.
Поначалу я еще пытался печатать, но выходило что-то не то – текст менялся прямо у меня на глазах, превращаясь во что-то нежелательное. Видимо, у меня больше не было абсолютной власти над этой ночью – странник решил не заморачиваться и просто отобрал ее у меня. Ну, по крайней мере, так я хотя бы знаю, что происходит. Если это, конечно, не трюк, придуманный для того, чтобы сбить меня с толку. Я наблюдал за развитием событий на экране компьютера и мрачнел с каждой минутой. Похоже, Питер был уже не просто чернилами и снегом – он стал человеком, и даже больше. Он начал вспоминать, и не было ничего опаснее для него, чем вспомнить свою историю. Я даже не пытался гадать, что произойдет, когда в его памяти больше не останется темных пятен. Но меня не покидало ощущение, что последствия будут катастрофическими.
В определенный момент выпитого стало слишком много, чтобы я не начал видеть то, чего нет. Иначе как можно было объяснить то, что в бар зашел Питер и сел за мой столик напротив меня, когда я видел, что как раз сейчас Питер и Мэри-Кейт находятся в какой-то волшебной лавке, созданной неизвестно чьим воображением? Этот пришелец долго молчал, уперев в стол блуждающий взгляд, но через какое-то время он созрел для разговора. Жаль, что я был не готов, но от этого было, судя по всему, никуда не деться.
– Знаешь, раньше, в первой жизни, я всегда верил в тебя – где-то в глубине души, и чем дальше, тем глубже я запихивал эту веру, но так и не смог от нее окончательно избавиться. Я верил во что-то другое, на тебя не очень похожее, но это неважно. Я всего четыре раза в жизни молился богу. Два раза я просил о том, чтобы ты прекратил боль, которую я чувствовал. Один раз – чтобы позволил мне и дальше быть счастливым, как в ту минуту, и еще один раз – чтобы дал мне решимость умереть, не оглядываясь на интересы других людей. Ни разу ты не помог мне. И я решил, что это устроено как-то иначе, и стал делать то, чего раньше не делал из-за веры, а после – просить прощения. Разумеется, никто меня не прощал, но откуда мне было знать точно? После исповедей становилось легче.
– Все действительно устроено не так. Когда-то все так и было, но это совсем другая история.
– Плевать. Я больше ни о чем не прошу, только спрашиваю. Так ответь, за что мне досталась такая судьба?
– Ты сам сделал первый шаг к ней, заключив ту сделку.
– Что меня привело к тому, что я пытался повеситься, а в итоге решился продать душу? Почему все не сложилось хорошо, что пошло не так?
– Ответ на этот вопрос тебе не понравится. Потому что он упирается в то, что ты не больший человек, чем остальные. Не ты один обладаешь свободой выбора, Питер. Желания и устремления людей не всегда совпадают, понимаешь? Неужели ты хотел бы добиться того, чего пытался, насильно, наперекор воле и желаниям другого человека? Тебе действительно подошло бы такое счастье?
– Почему желания людей не всегда совпадают? Неужели нельзя было устроить все как-то более… Благополучно и симметрично?
– Мир не имел бы смысла, желай все одного и того же. Будь это так, ты изначально бы не начал чувствовать ничего из того, что заставило тебя совершать все эти странные и глупые поступки, потому что человек, в своих желаниях и порывах во всем похожий на тебя, не был бы тебе интересен. Разве это не один из самых прекрасных моментов в любви – узнавать новое, открывать для себя целый неизведанный мир в другом человеке, удивляться, еще больше влюбляясь? Всего этого не было бы, не будь вы все различны, и любви тоже не было бы – остался бы голый инстинкт.
– Почему тогда я не мог хотя бы узнать, что мне нужно делать для того, чтобы как-то измениться, стать тем, кто… Ну, ты понял.
– Потому что ты не можешь просто взять и полностью измениться. Это не в твоей власти. Как же мне объяснить тебе, что мир вокруг тебя не вращается?
– Я это понимаю.
– Ты понимаешь, но не веришь. А должен искренне поверить.
– Так что же, я не могу быть счастлив, не могу измениться, чтобы быть счастья достойным, но ты, тем не менее, зачем-то пытаешься вырвать меня из круга перерождений? У меня еще один небольшой вопрос: а, собственно, для чего?
– Чтобы ты смог увидеть смысл в чем-то еще. В чем-то доступном и возможном.
– Этого не будет.
– Это ты сейчас так говоришь. Все проходит, знаешь ведь.
– Почему тогда не прошло за сотни лет новых жизней?
– А с чего ты взял, что это каждый раз один и тот же человек? Это ведь только ты перерождаешься, а не она. Ты проклят повторять одно и то же, но суть повторения – в одних и тех же поворотах судьбы, и никак не в людях. Ты должен в итоге сойти с ума, потому что бесконечное повторение одного и того же в надежде на иной результат всегда приводит к безумию.
– Я знаю, что это всякий раз она.
– Откуда? И как, позволь узнать, такое вообще возможно? Ты просто убеждаешь себя в этом, зная всю историю целиком. Самовнушение, Питер – опасная штука.
– Я просто знаю. Я чувствую это в ее голосе, вижу в глазах, в движениях, мелких деталях мимики, в манере речи. Я ощущаю это через прикосновения. И не могу ошибаться в этом.
– Нет. Ты или экстраполируешь образ первой на всех последующих, либо последней – на всех предшествующих.
– Ну я же возвращаюсь раз за разом, значит, это возможно.
– Но она свою душу не продавала. Просто смирись с тем, что она погибла в первый раз из-за твоих решений, а в прочие – из-за твоего проклятия. Но все это были разные люди. Тебе сложно принять то, что ты погубил четырнадцать человек, но именно так все и было, и ты погубишь еще больше, если не перестанешь вести себя, как законченный эгоист.
– Но что мне делать, если это единственное, что мне нужно? Если ты можешь заставить меня перестать чувствовать это… Я готов сделать что угодно. Я выдержу все и не сорвусь, но не с этим чувством вокруг горла.
– Осторожнее, мы, кажется, слишком увлеклись. Ты не хочешь спросить о чем-нибудь другом? Когда мы ехали сюда в поезде, у тебя еще оставалась куча дурацких вопросов. Самое время.
– Они меня уже не интересуют.
– Как-то это все нездорово, тебе не кажется? И да, ты не знаешь, как объяснить то, что ты находишься в двух местах одновременно?
Я указал на экран ноутбука, для удобства переведя текст в видео. Питер сейчас… Вместе с Мэри-Кейт стоял посреди оживленного переулка, оглядываясь вокруг. Другой Питер, тот, что сидел рядом со мной, с любопытством наблюдал за собой.
– Он настоящий, я – ретроспективный фантом.
– Ясно. Пойдем наружу, проветримся.
Я расплатился, мы встали из-за стола и направились к выходу. Ну вот, вместо перерожденца мне остался лишь призрак его памяти, который можно убеждать в чем угодно сколько угодно – он все равно ни на что не повлияет. Ну что ж, так я хотя бы скрашу время до следующего хода дьявола. Впрочем, не сомневаюсь, что ждать долго не придется.
Когда мы вышли из заведения, я остановился и пару минут постоял, напряженно размышляя. Питер покорно ждал. Наконец я принял решение, и мы двинулись дворами к реке, а затем – вдоль заметенной снегом набережной. Питер шел немного позади, задавая странные вопросы.
– Почему ты выбрал эту дорогу?
– Не знаю. Она мне просто нравится.
– У всего есть причина.
– Разве?
– Да. Ты выбрал эту дорогу, потому что это реальное место. Эта река действительно течет в настоящем городе, и путь вдоль набережной ведет туда, где все началось.
– Что ты сказал?
– Божечки, да какая разница, что я там сказал – я тот еще трепач. Кто ты ТАМ, в реальности – вот в чем вопрос. Но знаешь ли ты ответ, дружок? Я вот знаю.
Я резко обернулся, извлекая из кармана выкидной нож, но рука Питера – если это был он – уже вцепилась мне в горло железной хваткой. Он сделал подсечку и уронил меня на снег, ни на секунду не отпуская моей шеи. Он был не слишком аккуратен, и при падении я зацепил головой низкий гранитный бортик, и нож выпал из моей руки. Все начало расплываться и меркнуть. Питер – впрочем, я уже был уверен, что это не он – понял, что меня можно не держать, и отпустил мое горло. Дышать стало чуть легче, но это мое положение не слишком-то улучшило. Он тем временем достал из кармана куртки что-то продолговатое, тонкое и сверкнувшее в свете фонаря.
– Понимаешь, я люблю симметрию. Мне нравится думать, что ты покинешь это место тем же способом, которым сюда попал. И не переживай, мы все отлично проведем время в твое отсутствие! Мы тоже, знаешь ли, любим рассказывать всякие истории. И у меня хорошо получается – ты увидишь, если вернешься. Столько всяческих загадок, сюжетов, персонажей, исходов – и все мое, тепленькое и готовое для лепки. Одного солдатика я себе уже слепил. Надеюсь, вы еще познакомитесь, он просто чудесный малыш, честное слово!
Он улыбнулся от уха до уха, и это резкое движение заставило личину посыпаться, как старую потрескавшуюся штукатурку. Разумеется, это был он, кто же еще. Серебряные патлы нависали надо мной, обрамляя лицо совершенного безумца. Я никогда не понимал, что меня пугает в его облике больше всего, а сейчас вдруг понял – это было странное сочетание пустых белесых глаз, ничего не выражающих, мертвых, и сумасшедшей улыбки, которую он всегда старался сдержать. Ублюдок закатал рукав моего пальто, а затем поднес блестящий предмет к моим глазам, и я разглядел в нем шприц.
– Знаешь, что это, братишка? Твой подарок! Ты ведь не думал, что я оставлю тебя без подарка в такой праздник, правда? Правда же? Я не расстроюсь, если ты для меня ничего не подготовил. Достаточно будет, если ты просто не станешь сопротивляться…
Еще даже не закончив фразу, он воткнул шприц мне в руку и надавил на поршень.
– Ну вот, еще немного, и все. Давай я спою тебе песенку, чтобы ты быстрее уснул?
Затем он поднял голову и, глядя куда-то вверх, спросил уже явно не у меня:
– Ты ведь, наверное, замечаешь, что в этой истории стало совсем мало песенок, да? Меня это тоже расстраивает. Счастливого всем нам Рождества!
И он действительно начал напевать, расхаживая вокруг вприпрыжку и иногда поглядывая на меня – проверяя, не отключился ли я уже. Я был к этому близок – второй раз за ночь проваливался в забытье своего реального мира, о котором здесь не знал ровным счетом ничего. Вот что за песенку, напоминающую какую-то странную, его собственную переделку чужого текста, пел дьявол:
Нашим грезам сбываться – не к лицу
Колокол плачет по тебе обессилено
Ласточки, летя вниз, танцуют
Последнее танго для избранных
Ложь – наш с тобой порядок вещей
И человеческая жизнь превосходней
Никогда уже не будет, чем
Даже один миг в преисподней
Мне ничего не жалко для друга
Ведь мне приснилось – умер мир
Это лишь сон, но этот сон – в руку
И так рождаются дурные дни
Спи, фантазер, скорей засыпай
Передавай там от меня привет
Я скоро заеду в ваш славный рай
И всех вас сожру на обед.



