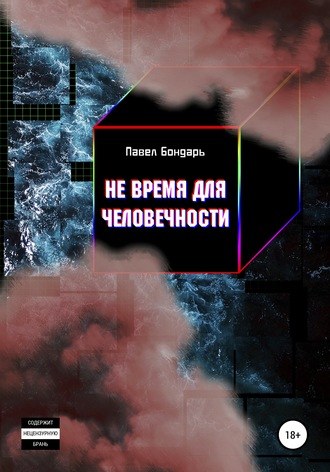
Павел Бондарь
Не время для человечности
Круг второй. Значение лопастей
Мы стоим перед очевидной проблемой – то состояние, в котором находится наша цивилизация, очевидно тупиковое по мнению любого здравомыслящего человека. Отсюда и возник ворох обществ мистиков, оккультистов и прочих интеллектуальных калек, фантазирующих на тему нового грядущего витка развития; однако они стали индикатором того, что мы и правда изнемогаем в ожидании смены парадигмы. Религия отмерла, мы уже не воспринимаем ее как часть жизни. Наука стагнирует и топчется на месте. Философия, как и прежде, полна лжи, словоблудия и противоречий. Массовая культура не даст никаких ответов, ведь и она сама деградирует вместе с нами. Но предположим, что нам в руки попал бы инструмент, позволяющий все исправить, “отрезать лишнее”, выбрать тот вариант развития реальности, который приведет нас к процветанию; и у этого инструмента нет ограничений – ему подвластны любые аспекты действительности, истинно божественное могущество. Что бы мы выбрали? Каким мы хотим видеть идеальный мир? И можем ли мы решить это совместно? Чем больше я об этом думаю, тем больше склоняюсь к мысли, что мы бы никогда не договорились. В таких важных вещах нельзя доверять решение обществу.
Неизвестный автор, “Ген смерти”
В небольшом кабинете, оборудованном специально для проведения сеансов воспроизведения некоторых избранных фрагментов, сейчас было всего три человека. Сегодня они собрались здесь для оценки работы штаба, ведь спустя четырнадцать циклов – без достижения каких-либо существенных успехов – руководство было совершенно уверено, что дать подобную оценку необходимо. Не только текущему составу штаба, но и работе самой нейромодели. Один из присутствовавших, начальник штаба с травмой лицевого нерва, предоставил подборку фрагментов, которые, как ему казалось, были наиболее многообещающими. Они не вписывались в остальной массив данных, были словно инородной частью, и в этом могла заключаться какого-то рода подсказка. Некоторые из фрагментов были извлечены уже давно, еще во время первых циклов, какие-то появились в деле недавно. Начать было решено с одного из недавних, извлеченного на тринадцатом цикле. Человек из руководства махнул рукой, устраиваясь в кресле поудобнее, поставил стакан с кофе на стол. Начальник штаба кивнул технику, и тот нажал несколько кнопок на голографическом удаленном интерфейсе, подключенном по зашифрованному каналу напрямую к выбранной подборке. Библиотека фрагментов пришла в движение, отдавая на вывод нейрозапись, и воспроизведение началось.
“Наступает особое время. Иногда я думаю об истории человечества как о комнате с человеком и большим механизмом с лопастями, вроде вентилятора. Вот картина: человек сидит в комнате, механизм стоит рядом, он неподвижен, конструкция основательно закреплена. У комнаты нет ни окон, ни дверей, а примерно посередине, в паре метров за спиной человека, начинается пропасть, и задняя стена комнаты сплошь усеяна острыми шипами. Человеку жарко. И вот он задумывается, можно ли как-то использовать эту штуковину, чтобы стало прохладнее? Он подходит к механизму и осторожно трогает его пальцем, ощупывает и осматривает, качает лопасти. Качнул резко – и ощутил легкое колебание воздуха. Идея! И человек начинает раскручивать лопасти, с усилием, медленно, но чем дальше, тем легче они поддаются, и вот уже прохладный поток воздуха обдувает радостного человека, и он все продолжает и продолжает крутить лопасти. В какой-то момент нашаривает рукой рычажок с задней стороны механизма, дергает его. Рычажок ломается и отваливается, но механизм начинает крутиться сам, и человек, довольный собой, садится перед лопастями и наслаждается прохладой. Но механизм ускоряет вращение, и вот уже поток воздуха становится некомфортным, сушит глаза и обветривает кожу. Пока человек думает, как поступить, скорость вращения растет линейно. Когда человек решает встать и выключить механизм, поток воздуха уже почти сбивает его с ног, толкая в сторону пропасти, но человек хватается за прикрепленную к полу конструкцию. Рост скорости вращения из линейного становится степенным. И вот человек висит параллельно полу, уносимый невероятно мощным и все более ускоряющимся потоком, одной рукой пытается выключить механизм, другой изо всех сил цепляется за него же.
Какие есть выходы из этой ситуации? Если предположить, что прыгнуть, перекатиться или еще каким-то способом уйти из-под потока невозможно. Как мне кажется, остается три варианта: либо попытаться сломать механизм, рискуя конечностями и даже жизнью, либо сдаться – разжать руку и улететь в пропасть, либо держаться дальше, в надежде, что иное решение появится прежде, чем скорость потока выйдет на экспоненциальный уровень, когда держаться станет невозможно. Но третий вариант – это ловушка, иллюзия выбора. Нам свойственно надеяться на лучшее вопреки объективной реальности. В конце концов, мы ведь улетим в пропасть как во втором, так и в третьем случае, так почему бы не подождать, пока еще есть силы?
Первый вариант хорош тем, что дает надежду на спасение, но плох в том, что гарантирует увечья. Второй – избавляет от страха и боли, но гарантирует смерть – ну, как гарантирует, на дне пропасти ведь может быть водоем и подводные пещеры, ведущие на свободу, так? Теоретически. А вот третий вариант… Он скорее не про надежду, а про страх, неспособность сделать выбор, бесконечное откладывание момента принятия решения. Мы тянем время, а лопасти вращаются все быстрее, и скоро любые попытки сломать их превратят руку или ногу в кроваво-мясной фонтан, не причинив вреда механизму, а если перестать держаться – потоком воздуха снесет сразу на заднюю стену, на шипы. И чем дольше мы тянем с выбором, тем меньше у нас шансов.
Наступает время решать, зачем мы здесь, чего мы хотим, чем готовы пожертвовать. Нужно ли нам вообще это “будущее”? Или большинству из нас действительно наплевать? Верующие попадут после смерти в специальные места, им можно не беспокоиться. Атеисты растворятся в небытии, что в принципе снимает большинство вопросов. Родители сейчас вряд ли задумываются о судьбе своего рода, все внимание сосредоточено на детях или внуках, и почти никто не заглядывает в будущее на несколько поколений вперед. Наш короткий век диктует законы нашего мироощущения, расстановки приоритетов – устроиться получше, воспроизвести свои гены, проследить за тем, чтобы потомство встало на тот же путь, а потом и смерть тут как тут. Ну и где найти время и силы для переживаний обо всем роде людском? Инстинкта размножения не всегда хватает даже на должное исполнение функции заботы о непосредственном потомстве, куда уж там долгоиграющие планы на весь вид.
Кто знает, возможно, мы вскоре преодолеем тягу к самовоспроизведению, окончательно смиримся с тем, что никакого будущего у нас – нашей собственной отдельной личности – нет, и постепенно вымрем. Заложено ли это природой в каждый биологический вид, чтобы не допускать перенаселения и доминирования единственной формы жизни, или же это, наоборот, программный сбой, и в оригинале нашего “кода” прописано, что мы должны заполнить собой все существующее пространство? В первом случае получается, что вселенная чудовищно жестока, раз не дает ничему существовать столько же, сколько она сама. Она как мать, наблюдающая за смертельными играми своих детей и в конце лично убивающая победителя. Во втором случае мы видим, что она, возможно, стремится к полной унификации, достижению абсолютной однородности каждой своей частицы, и это тоже немного пугает. Или же мы зря ищем паттерн там, где его нет? Если существует то, что нам кажется системой, всегда ли справедлив вывод о наличии истока, предтечи, акта творения, любого другого первоначала, первопричины? Может ли что-то неслучайное возникнуть случайно, и способны ли мы вообще в полной мере понять значение слова “случайно”? Хотел бы я узнать ответ на хотя бы один из этих вопросов”.
Нейрозапись с коротким сигналом прервалась, обозначая конец выбранного фрагмента.
Круг третий. Вид из горизонта событий
Verrà la morte e avra i tuoi occhi
Чезаре Павезе
Поездка была долгой и безумно скучной. Автобус ехал мимо одинаковых поселков с аккуратными домиками, гостеприимно просторными кладбищами и покосившимися церквями, и проделывал он это так медленно, что к середине пути Эрик уже не был уверен, что это автобус движется относительно деревенских пейзажей, а не наоборот.
Впрочем, одно происшествие все же нарушило размеренное течение вечера: когда визгливый ребенок, принадлежащий непредусмотрительной семейной паре туристов, решил украсить спинки передних сидений своим завтраком, автобус остановился, и маленького человека вывели подышать воздухом. Эрик спрыгнул с верхней ступеньки подножки, встряхнулся и уселся на теплую траву, сложив ноги по-турецки. Неспешно закуривая, он смотрел на вечернее солнце, уже не слепящее до слез, но все еще щекочущее глаза.
Когда, устав от света, он опустил взгляд на зеленый холм вдалеке, ему показалось, что на самой вершине холма стоит фигура с косой в руке и машет кому-то. Вдруг все вокруг осветила мощная вспышка зеленоватого света, и Эрику пришлось зажмуриться, чтобы, открыв глаза, не увидеть ни следа человека с косой. Глаза слезились, во рту – будто пустыня, а каждая кость и мышца гудели и ныли, словно он просидел тут уже очень долго. Эрик оглянулся на автобус – выходившие покурить пассажиры заходили внутрь. Он встряхнул головой, избавляясь от последних следов короткого наваждения, и поспешил вернуться на свое место в конце салона.
Через час картина за окном сменилась – они подъезжали к городку, который опухолью коммерции присосался к Волчьему Утесу. Люди все так же приезжали поглазеть сначала на саму скалу, потом вниз со скалы, затем спуститься в пещеры у моря, чтобы выслушать рожденную в творческих муках маркетологической алчности байку о морских чудовищах, якобы заползающих в эти дыры из глубин океана. Разумеется, среди туристов никогда не оказывалось ни одного океанографа, так что никто не обрывал гидов разумным замечанием, что сколько-нибудь серьезных глубин вокруг Волчьего Утеса не было в радиусе многих миль, и вряд ли чудовища стали бы тратить свое время на такое долгое паломничество в заурядные каменные щели; они скорее предпочли бы этому традиционные для чудовищ ценности – развлечения с рыбацкими кораблями и шоу для публики с плохими фотоаппаратами на рыбацких лодках и небольших яхтах.
Эрик хорошо понимал мифических монстров – он и сам ни за что не приехал бы сюда еще раз, если бы не приглашение от старого друга, которому выпал шанс открыть в этом месте многообещающий бизнес. Его осторожность в делах и мнительность, неожиданно приобретенные им после двадцати четырех, прямо-таки подобранные на пороге взрослой жизни, стали причиной долгой бюрократической возни и холодной войны с местным муниципалитетом. А прекрасно сохранившаяся наглость позволила почти насильно втянуть в это дело своего единственного знакомого юриста.
Когда автобус, наконец, дернулся в последний раз и замер, Эрик вышел через заднюю дверь, отошел подальше и, закурив, окинул взглядом окружение. Издалека каменный клык выглядел вполне безобидно, но напускная кротость не могла обмануть никого, кто хоть раз видел изнанку этого места. Вот и Эрик, еще не успев докурить, поежился от холода пополам с отвращением и быстрым шагом направился вглубь городка.
* * *
Эрик заснул под звуки барабанящего по крыше дождя. Снились ему ящерицы с пейсами и в кипах, автобусы с мрачными жнецами в гавайских шортах и, как-то совсем уж невпопад, расплывчатый силуэт, медленно и одиноко танцующий под луной посреди цветочной поляны. Эрику силуэт показался до боли знакомым… Нет, не так. Скорее показался кем-то, кого он знал в прошлой жизни – в сотне прошлых жизней – и уже вот-вот узнает в этой. Он попытался приблизиться, чтобы разглядеть, кто же это, но, как только он ступил на залитую лунным светом поляну, она превратилась в бесконечную бесцветную плоскость, по которой с грохотом неслись шары всех возможных цветов. В какой-то момент Эрик понял, что он и сам несется по плоскости, а в следующую секунду столкнулся с одним из шаров и в ужасе проснулся, тихо шипя, словно от боли.
* * *
Еще на подходе к Волчьему Утесу Эрик почувствовал, как под куртку снова пробирается холод – и это в теплый августовский день. Он поглядывал на группу туристов студенческого вида, шагающих в десятке метров от него, но им, судя по всему, холодно не было. Они веселились, бодро перекрикивались, перебрасывались стремительно пустеющими бутылками, не замечая ничего странного и пугающего в воздухе вокруг себя. Может, ничего такого в воздухе и не было, а зловещий дух скалы существовал только в воображении Эрика.
Чиновник ждал его в ресторане, частично встроенном в скалу, а частично – нависшем над пропастью. Вид через огромные витражи открывался, конечно, потрясающий, но Эрику все еще было не по себе от этого места, поэтому беседа получилась весьма лаконичной. Представитель городских властей оказался куда уступчивее и человечнее, чем был расписан Эрику прошлым вечером, и дело быстро сдвинулось с мертвой точки. Через каких-то полчаса Эрик вышел из ресторана обнадеженный и в приподнятом настроении. Сквозь тучи выглянуло солнце, утренний холодок был окончательно забыт, и Эрик даже решил немного прогуляться вдоль Волчьего Утеса.
Когда он уже сильно отдалился от ресторана, стайки туристов и прочего, его взгляд вдруг зацепило что-то удивительное. Из щели между камнями выглядывал… цветок? Эрик был далек от флористики, но чем дольше он вглядывался в это белоснежное чудо, тем больше уверялся в том, что таких цветов в природе не бывает. Чтобы разглядеть его получше, нужно было приблизиться к самому краю скалы, но сейчас страхи Эрика отошли на второй план, и что-то внутри словно против воли вело его – по траве и камням, а потом и через невысокое ограждение с предупреждающими табличками, туда, где рос цветок, по мере приближения заполняющий поле зрения.
Все вокруг потускнело, отдавая краски ему, слепяще-белому, с невозможно тонким и изящным стеблем и бутоном из чего-то, что абсурднейшим образом напоминало перья. Эрик замер над обрывом, не в силах оторвать взгляда от самого прекрасного, что он видел в жизни. И, пока он смотрел, в его голове проносились годы, наполненные тоской и отвращением, не стоящие и единого мига настоящего. Должно быть, прошло много времени – солнце уже успело войти в зенит, начать опускаться и даже проделать большую часть пути до горизонта, но время стало пугающе неуловимым.
С восторгом прозревшего слепца Эрик наблюдал, как цветок слегка покачивается на ветру, доверчиво раскрываясь его взгляду и, одновременно – уродливому миру. Уродливому, но все же сумевшему дать жизнь чему-то настолько потрясающему и чистому. Может, и сам этот мир не так плох, как всегда казался? На лепестках-перьях лежали небольшие льдинки, а в центре бутона сверкали капли вчерашнего дождя, в которых отражались тысячи далеких созвездий, рай, бесконечно красивый мир и один нелепый потерянный человек на краю обрыва.
Эрик почувствовал, как внутри, заполняя равнодушную пустоту, разрастается невероятное нечто, теплое и волнующее, и уже в следующую секунду он первый раз в жизни заплакал – от счастья, которое тоже испытывал впервые, и все больше становилась уверенность, что теперь все наконец будет хорошо – так, как должно было быть всегда. Бумаги бессмысленным ворохом исчерканной целлюлозы выпали из рук, колени подкосились. Его рука сама по себе потянулась к цветку – просто чтобы прикоснуться, смахнуть лед и поделиться этим новым теплом, способным, казалось, согреть всю планету. И, сколько он впоследствии ни пытался понять, почему случилось то, что случилось, он никогда не смог бы сказать точно.
В следующую секунду Эрик уже летел в пропасть.
* * *
Давид толкнул дверь и зашел в бар. Внутри оказалось необычайно людно – словно сегодня был какой-то особенный день. Впрочем, у дня были бы все шансы стать особенным, не будь в помещении Адама, но тот привычно обретался за одним из угловых столиков. Давида он заметил сразу и приветливо махнул рукой – это значило, что он был еще в дружелюбном состоянии и расположен к беседе. Давид заказал бокал темного пива и подсел к другу. Адаму явно не терпелось что-то рассказать, и он начал безо всяких вступлений.
– Знаешь это чувство, когда ты срываешься с уступа в пропасть и ничего не можешь сделать, словно тебя паралич разбил?
– Нет. Я только знаю, что чувства, когда стоишь на краю обрыва, и тянет прыгнуть вниз, у меня нет.
Адам даже не улыбнулся, целиком поглощенный очередной идеей.
– Сначала в голове лениво вспыхивают мысли, что неплохо бы, мол, ухватиться за что-то, но край отдаляется, а ты все так же бездействуешь, и руки все так же висят в воздухе мертвыми удавами. А когда понимаешь, что происходит, уже поздно, и, сколько ни дергай конечностями, никак не спастись.
Давид задумчиво отхлебнул из стакана друга, но в стакане был, как ему показалось, просто виски. Тогда он устало вздохнул и подпер ладонью подбородок, устраиваясь на стуле поудобнее.
– Продолжай.
– Тебе остается только орать, и ты орешь, так громко, будто что-то или кто-то подхватит тебя в воздухе, если будешь вопить достаточно истошно. У столпившихся зевак уже барабанные перепонки лопнули, а крик только набирает силу. Ты сам почти превращаешься в крик, пытаясь обмануть гравитацию, смерть и время, но глупое тяжелое тело все так же тянет тебя вниз.
– Мне кажется, что ты читаешь по бумажке. Ты читаешь по бумажке?
Адам усмехнулся и постучал пальцем по лысому черепу.
– Все бумажки хранятся тут. Они тут пишутся, классифицируются и зачитываются в нужный момент. Так что сиди и слушай внимательно, не перебивай.
– Ладно, Страшила. Валяй.
– Кажется, что от такого ужаса все законы вселенной должны враз измениться и помиловать, спасти именно тебя, хоть скалы внизу и усеяны останками таких же оступившихся, и ни у кого нет ни возможности, ни желания дать тебе понять, что те люди летели отнюдь не тише, так что ты продолжаешь верить и визжать. Падать и таять. Но это еще не самое интересное. Забавнее всего то, что эта пропасть именно для тебя окажется бездной, и лететь тебе целую вечность, и каждую секунду твоя вера в спасение будет уменьшаться в геометрической прогрессии, но так никогда и не достигнет нулевой отметки, хоть и будет к ней бесконечно стремиться. Ты успеешь сойти с ума, потерять личность, вообразить себе другое развитие событий, прожить тысячу жизней, в которых памяти о падении заботливо не будет, но никогда уже оно не прекратится, ни одна поверхность не примет тебя. Для стороннего наблюдателя ты долетел до камней за десять секунд, наблюдатель уже давно ушел по своим делам, уже давно вечером за ужином рассказал жене об очередном несчастном случае над пропастью, уже давно дети их состарились, правнуки – сгнили в гробах, планета – погибла в последней самоубийственной вспышке желтой звезды, вселенная – сжалась до невыносимо маленькой точки и снова взорвалась, но ты все еще падаешь, как частица света, попавшая за горизонт событий.
– А почему ты упал?
– И это все? Тебе интересны только причины, а до самого важного – сюрреализма происшествия – нет дела?
– Причина важнее. Раз уж помочь никак нельзя, то можно хотя бы разобраться в случившемся, пусть не ради тебя, но для порядка. Так что? Грунт осыпался, кто-то подтолкнул, порывом ветра сбросило?
– Гипотетический падающий очень боялся высоты, но ему было скучно и одиноко в стороне от толпы, восторженно глядящей вниз с обрыва. А еще его подвело любопытство. Бедняга подумал, что там, внизу, должно быть, что-то жутко интересное – иначе с чего это все скучковались и пялятся. И он подошел к самому краю, намного дальше, чем стоило подходить, но понял это немного позже, чем нужно было понять. Головокружение, слабость в ногах, нерешительное покачивание над пастью пустоты и один неверный шаг.
– Значит, виноват только он сам. Его глупость, любопытство и слабость подтолкнули его вниз, разве нет?
– Да, он сам виноват. Точно так же, как виновата пропасть, боязнь высоты, тяжелое тело и легкий воздух, красота пейзажа, восхищение толпы, ходячие ноги, его родители, водитель туристического автобуса, желание удивляться и радоваться, гравитация – то есть никак. Никто не виноват – виновато все.
– Прямо-таки гравитация и водитель, скажешь тоже. Как по мне, так тут все проще некуда – дурачок полез туда, куда явно не надо было лезть, да и ухнул вниз. Следующий поостережется, или там забор поставят против таких любопытных.
– Там было невысокое ограждение, но оно его не остановило. А настоящий забор никогда не поставят – это им всю красоту порушит, и тогда народу приезжать будет меньше.
– Ну и дрянь. А кто они такие?
– Ты мне лучше на другой вопрос ответь: откуда тебе или мне знать, что это не мы падаем в бездну?
– Я чувствую стул под своей задницей и абсолютно уверен, что никуда не падаю. Ты же, с другой стороны, явно выпил уже достаточно, чтобы свалиться, когда попробуешь встать из-за стола. Это и будет твое великое падение.
– Все-то ты понял, не увиливай. Как ты можешь быть уверен, что твоя жизнь – не видение летящего в пустоте человека?
– Разве можно себе что-то представлять так подробно? Все слишком хорошо и детально прорисовано, чтобы быть сном или видением.
– Это тебе сейчас так кажется. Во снах, например, ты уверен, что бодрствуешь, а время там сжимается, как я под ледяным утренним душем. Я как-то проснулся и был уверен, что прожил во сне сорок лет.
– Ну, твою-то нудную жизнь и ребенок выдумает. Так почему мы именно летим, а не спим?
– Может одно, а может и другое. Не узнаешь, пока не проснешься.
– Или не приземлишься на скалы.
– Я же говорю, что лететь можно вообще бесконечно – время для тебя растягивается.
– Если есть чему растягиваться, то есть чему рваться.
– То есть?
– Не важно, как твой мозг воспринимает ход времени, и что он для него субъективен, потому что мозг, в отличие от разума, материален и уязвим к физическим воздействиям, таким как, например, удар о здоровенный камень. Твоя геометрическая прогрессия однажды все же достигнет нуля – автоматически, когда пересечет черту первого неделимого положительного числа.
– И почему мне кажется, что эта твоя внезапно прорезавшаяся глубина мысли – дурной знак?
– Потому что ты тоже подумал об этом. Почему я вдруг стал говорить как ты?
Люди вокруг этих двоих замолчали и, с механичностью китайских болванчиков покачивая головами, принялись отодвигаться на стульях как можно дальше. Кто-то не выдержал – хлопнула дверь бара, на миг дав понять, что на улице уже гроза и настоящий потоп.
– Потому что ты подумал об этом в одну секунду со мной. Подумал, что бесконечности нет места в системе, предполагающей исчисление и, следовательно, конечность. Если время дискретно, то…
Снаружи раздался треск – гроза превратилась в ураган, деревья с жутким звуком вырывало из земли, а машины швыряло по улице. Стекло заведения не выдержало и разлетелось на сотни осколков, которые, впрочем, никому не причинили вреда – бар был пуст, за исключением Адама и Давида.
– Неделимая частица приближается.
– И мы уже поняли, что она такое, правда?
– Вне всяких сомнений. А как ты все узнал заранее? Ты ведь сидел тут со своей историей не просто так, ты уже был в курсе. Откуда?
– Наконец-то спросил! Короче говоря, встретил я сегодня одного забавного…
Треск деревьев и рев урагана, голоса людей, скрежет сминаемых автомобилей, гул стекла, гром – все смолкло на невыразимо короткий миг, освещенный изнутри зеленоватым сиянием приближающейся линии терминатора, и уже в следующий не-миг все затопил чудовищный хруст. Мир перестал существовать.
* * *
Удивительный цветок насмешливо сверкал в лучах солнца, всем свои видом заявляя, что у них нет над ним власти. Этому холодному чуду далеких гор, морей и ледников не нужен был фотосинтез, а секрет его появления в этом месте не был чем-то земным и объяснимым, уж тем более – при помощи скудного человеческого языка. Цветок устал и втянулся в щель между камнями, так и не поняв, что это была за рука, и куда она так внезапно делась.
Рука же, тем временем, отлетев чуть поодаль от всего остального, под тенью зловещего утеса тоже отвергала власть солнца и старалась быть неподвижной. И если бы не остаточные подергивания, это получалось бы у нее весьма убедительно.



