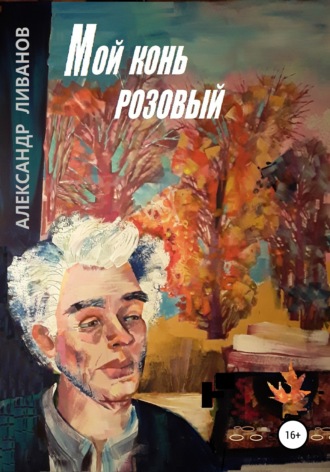
Александр Карпович Ливанов
Мой конь розовый
Ум или мудрость
Насколько возможно разделить понятия ум и мудрость (некоторая «контрапунктность» слышна отчетливо в этих словах: «ум» – «му»! Ею как бы подчеркивается в них одновременное «единство-противоположность»!..) – о них, наверно, следует сказать, что ум – все же ближе к практической жизни (к непосредственному опыту), а мудрость – к природе, к ее вечным и сокровенным заветам жизни (к врожденному, цельному, как бы безначальному и бесконечному!). Наверно, поэтому мужчины чаще бывают – умными, женщины – мудрыми, а, живя вместе, до конца дней своих так и не поймут в своем двуединстве, кто кому следовал в жизни! И ведь ум – «он», мудрость – «она»!..
Ум – деятельней, практичней, деловитей и реалистичен. Он больше к моменту и случаю, он предприимчив и находчив, упорен и маневренен… Мудрость же большей частью – охранительна, она смотрит вдаль и осторожна. Ум, действует, совершает ошибки, по возможности их исправляет походя, совершая новые ошибки, для него цель и результат – главная доблесть. Мудрость видит свою доблесть в предотвращении ошибок, в том, чтоб сама цель-результат не были главной ошибкой: она любит все подвергать сомнению! У нее – душевный, одаренный опыт, который то многомерен, а то и абстрактен и вроде бы не к делу. Вот почему она не навязчива и улыбчива. Мол, я сказалась, а ты – как знаешь! Время в ее чувстве живет не отрезками, не обломками, а тоже безначально-бесконечно, теряясь в смутной размытости и продолженности: сам образ вселенской гармонии и беспредельности! Ум – практичней, мудрость – духовней…
Ум – дискретен и ценит факт, в своей устремленности он воспринимает жизнь дифференцированно, мудрость же – знает жизнь художнически-интегрированно, в единстве ассоциаций и обобщения.
Ум – сообразителен в деле, умеет выбрать к нему лучший, самый краткий путь, мудрость, глядя поверх дела, видя «за далью даль», множество дел человеческих, точно обозревает мир с высокой точки, со всем его разнообразием рельефа, дорог и троп.
Ум и мудрость… И не сказать, что розны и разны они, равно как не сказать, что они уж совсем одно и то же, умеют быть по необходимости то одним, то другим, следуя законам «количественных» или «качественных» превращений. Если бы – одно и то же, зачем тогда два слова, два понятия? Если бы разные – зачем они то и дело поминались бы рядом, вместе? Разве только с той разницей, что ум поминаем больше во время дела, а мудрость – во время перерывов, вольных или невольных, из-за затруднений-заминок, сомнений-раздумий, из-за нового опыта в этом же деле…
И сколько бы ни думать, не толковать о них, все же снова и снова возвращаемся «из жизни» – «в природу», как бы с «полным забвением» первой – вопрошаем вторую. И та, бессловесная (не боязнь ли одномерности – эта ее бессловесность? Ведь еще когда, и кем – поэтом! – сказано о ней: «В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык…»), помогает нам догадаться, что ответ рядом, в самой человеческой жизни, в том, что человек бывает лишь – мужчиной, либо – лишь женщиной, что суждено им быть вместе, в их трудном – духовном – двуединстве: любви!
Та же поэзия!
Я уже об этом где-то писал. Но вот вышел – впервые – большой однотомник Велимира Хлебникова, где автор представлен по возможности во всем разнообразии поэта и мыслителя, где, впрочем, включена и его проза. Проза – поэта! Как уж бывает, именно она проза – некий пробный камень самого поэта: его органичности. Его подлинности! Сколько поэтов – в своей строго-жанровой поэзии – выезжают на чисто стихотворной форме, а написав прозу – именно прозу – сразу обнаруживают свое художническое творчество. И ни прозаика, ни поэта!..
То есть, подлинный поэт и в прозе остается – поэтом, художником, хотя проза его вроде бы и мало похожа на обычную сюжетную, пластично-изобразительную прозу, но она подчас – школа для прозы! В то время, как проза стихотворца, неорганичного поэта, при всем его старании даже – прозаична, лишена «крепости», она – беллетристика, в лучшем случае!..
Проза Пушкина и Лермонтова, Хлебникова и Блока, Белого и Есенина, Пастернака и Цветаевой… Какая концентрированность – как мысли, так и образности! И, повторяем, она почти всегда – бессюжетная, эссеистская, из душевного мира поэта вроде бы не из внешнего мира – но и по поводу внешнего мира. Свойство субъективизма поэта!
Иными словами – неподготовленному читателю эта проза покажется даже вовсе «непрозой»! Зрелому же читателю она приносит радость – неожиданной плотной концентрированностью: «Я – и мир», «Я – и жизнь», «Я, мой душевный мир – и человечество»!
Материнство
В сущности – коммунизм есть проблема человеческого самовоспитания себя человеком во имя обретения духовного сознания бытия. Точно между Сциллой и Харибдой он должен провести себя между эгоизмом ройности под видом коллективизма и эгоизмом индивидуализма под видом личности. И задача, и пути решения – творческие!
В этом и есть предельное доверие-уважение коммунизма к человеку. Пусть отомрет государство – общество остается, останутся, выходит, взаимные обязанности людей друг перед другом, равно как их взаимная требовательность. Но уровень их будет таков, но дух их будет того свойства, что будет исключена необходимость их регламентации! Отношения будут строиться между людьми как соревнующееся великодушие! Так, например, строятся (не строясь задано, но в естественной законченности) отношения между матерью и ее детьми – отношения духовного порядка, не дающие повода для вмешательства извне и закона… Не знаю, какой смысл вкладывал в свои слова Пришвин, но он не уставал повторять: «Коммунизм – это материнство!».
Борьба
Общество и индивид, государство и гражданин… Общность идеалов чаще всего – некий сложный компромисс сторон, те взаимно-лукавые уступки-ущемления, которые и приводят к комформизму. Чистый свет идеалов, видать, сохраняется лишь в великодушии соревнования уступчивости и издержек с обеих сторон! Не в этом ли – в конечном итоге – воплощение идеи платоновского идеального государства?..
Плоды просвещения
Чем почтенней писатель, прозаик или поэт, особенно в случае с классиком, тем чаще издательства открывают книгу его – предисловием. Эдак – листа 1,5 – 2 мельчайшего, слепого петита, кандидатской компиляции под видом «биографии», «анализа творчества», «писатель и эпоха», «общественно-политическое значение творчества» и т.п. Словно в театр, в сияющий, праздничный, оживленный и нарядный зрительный зал, перед открытием занавеса добираемся какими-то пыльными, темными подвалами, захламленными лабиринтами, штукатурка в углах обвалилась, зияет кирпичная кладка, висит паутина, завалы ломаной мебели, старой рванины декораций, фанерных обшарпанных колонн, тесные и низкие лазы, выщербленные ступени, вверх-вниз, влево-вправо… Господи, скоро ли? Почему не сразу, через парадный ход – в зрительный зал, к пьесе, к артистам и их прекрасному искусству! И кому, кому нужны эти крысиные углы, темь, рухлядь и пыль – перед театром и его праздником, то есть перед словом художника? Ведь так всякое настроение убить можно! Хотя бы на задворки книги вынесли б этот убогий петит! Почему он «вводит» в книгу? Да и кто представляет нам классика и его книгу? Хотел бы сам классик – спросить бы его! – чтоб «кандидат наук такой-то» его представил читателю, навязался в посредники, истолкователи, гиды?.. Вот разве что – авторские предисловия, которые чаще всего рождены необходимостью его прижизненного издания.
Но помимо урона эстетике издания, бестактности к автору, подчас покойному классику, ради предисловия так то и дело весьма ощутимо «подрезается» авторский текст! Кроме автора предисловия («научная публикация»!) это, разумеется, никому не нужно. Но главное – досада от субъективной одномерности, навязчивости интерпретаций из требований «момента», равнения на последнюю газетную статью…
И как живучи, как заразительны дурные примеры. И все больше книг, все больше число предисловий, все больше число петитных прислеповатых страниц перед художественным текстом! И каков он, перепад, как он разителен – между автором предисловия, нехудожником, и автором текста, художником…
Казалось бы, простейшее соображение должно б навестить издателей. Ведь – тоже знаменательно – при жизни писателя и поэта его книги выходили без предисловий! И это во времена Белинского и Чернышевского, Добролюбова и Писарева! Что же, поглупел с тех пор читатель? Текст от времени затуманился смыслом? Почему надо так опекать, водить по своим кандидатско-компиляторским лабиринтам – точно и вправду по тем захламленным подвалам – читателя? Ведь не дитя неразумное, не нуждается он в мамкиной ручке! За редким исключением – предисловия: балласт. И убыток. Типографский, нравственный, моральный…
Наконец, несовместимо это: нехудожественная «критика» – и художественное слово писателя, поэта: художника! То есть, даже из соображений разножанровости – несовместимость здесь. Если читатель найдет нужным, он сможет отдельно – обязательно отдельно! – прочитать нужную «критическую литературу». А здесь, в книге, нечего висеть над слухом, мыслью, душой читателя! Он хочет интимного праздника читательского, а издатели никак не желают его оставить один на один с художественным словом – без посредства нехудожественного слова!..
Странное, не правда ли, упрямство? «Плоды просвещения»?..
Театр или бойня
Из века в век, в мире этической двуполюсности добра и зла (подобно электричеству и эфиру-электронике в их огромном мире из двузарядных плюс-минус!) обреталась человеческая жизнь, благодаря духовным чаяньям на совершенствование себя, на умаление зла и возвышении добра… Фашизм – попытка построить однозначный бездуховный мир зла. Идеология смерти, крови, подлости заботилась о форме, представ неким театром зла, всей своей мистико-символической ритуальности.
Но как всюду, самоцельная форма без жизненного содержания не существует. Она спадает подобно маске, обнажив лик бандита, лик его зверства – театр предстал кровавой бойней…
Тайна выживания
Я отчетливо помню быт крестьянина первых двадцатых (на Украине). После четырех лет «германской», двух революций, трех лет гражданской войны, особенно истерзавших Украину «многовластьем» и его переменами – быт этот упростился до уровня какого-нибудь XVII века! Могу по пальцам исчислить всю «обстановку бытовую» в избе: печь и полати, стол и лавка, святой образ в переднем углу и мисник возле дверей. Ухват, кочерга и лопата возле печи, да еще два-три глиняных горшка на шестке… На полатях – солома и полушубки. Последние – и одежда, и «постель»… Если к этому добавить корыто для квашни, кадушку с водой в сенях, деревянные ведра с коромыслом, корыто и зольник для стирки белья (зольник – пустотелый липовый обрубок ствола, куда укладывалось, пересыпанное пеплом – вместо мыла! – белье, все домотканное, из конопляного суровья) – реестр-список имущества будет полный…
Главное, ведь так жили многие поколения наших предков!.. И каким, стало быть, должно было быть душевное здоровье их, сила духа и мудрость, если могли выживать из века в век, при таком быте!..
Болезнь или здоровье
Когда мы больны – мы знаем, что это нехорошо, потому что мы постыдно слабы, не можем работать. У нас температура, у нас лихорадка, силы убывают… Это не жизнь, это ненормальное состояние, это… болезнь, из которой нужно вырваться, которую надо одолеть, лекарствами, сном, волей!..
А что же такое – писательство? Целый день ты как в лихорадке, как с повышенной температурой, с повышенным пульсом, то – ни сна, ни отдыха, а то до того обессилен, что уже вовсе бессонница, и мысли, мысли; картины реальной жизни нет для тебя, целиком живешь в этой, выдуманной самим, в той же, действительно твоей – существуешь механически, как сомнамбула, как во сне! Что же это такое – эти «муки творчества», эта сладкая мука нежизни? Нормальная ли это жизнь? Не болезнь ли она?..
Но вот ты однажды утром встаешь – никаких мыслей, картин, сюжетов!.. Куда все делось? Откуда эта пустота?.. Как она ужасает – живешь ли ты? И что это за жизнь – без той лихорадки, похожей на болезнь? Неужели, неужели – все кончилось? Чем тогда жить? Вещи, предметы, книги… Все вокруг – точно из наплыва киношного, сфокусировавшись – встает в какой-то знакомой-незнакомой опечаленности. Словно присматривается ко мне, вопрошает: что со мной? Если бы я знал – что со мной! Жив ли я? Если бы это знал…
Но к счастью – это не надолго. Ад возвращается! Снова сюжеты, картины, мысли. Скорей к машинке! И бог с ним с ответом – чтό здоровье, чтό болезнь, где норма, а где ненормальность! И так, видать, всю жизнь!..
Две стороны одной медали
Исторический человек – и историческое общество… А сама история – это по сути нескончаемая цепь конфликтных или реформенных «уточнений» каждым своих прав над каждым… Человек считает, что общество – согласно его же деклараций – создано для человека, что общество должно быть человеческим; общество же считает, что человек должен служить обществу, оно ратует за общественного человека, поскольку только обществу дано знать, как обеспечить человеку его счастье. Взаимная дрессировка: настороженность, хитрость, игра!..
Вечный и нескончаемый здесь поединок, результатом которого, еще в Древнем мире, родилось понятие «демократия» – некий компромисс между власть предержащими и подданными.
Но и после этого, после всех демократических институтов, видим, что поединок этот – «общество-человек» – не только не кончается, а, наоборот, принимает все более острые формы… Каждый во всем обвиняет лишь противную сторону, не желая видеть собственное несовершенство! Общество укоряет человека в его несознательности, человек – общество – в его недемократичности и самоцельной увлеченности. Оба ждут, чтоб другая сторона изменилась к лучшему!
Но ведь обе стороны – и «причина» и «следствие», меняться к лучшему надлежит обеим сторонам! Одновременно, и даже хорошо бы – с «досрочным перевыполнением личных заданий»!..
Две матери
«Любовь и голод правят миром…» Две стихии, две страсти, «два голода». Но, не будучи влюбленной, женщина никогда не снизойдет до сочувствия, сострадания, жалости в чьем-то «любовном голоде», пусть и достигшем – страсти, стихии, угрозы для жизни.
Зато каждому, почти с автоматизмом, сострадает она в «обычном голоде», пожалеет, накормит, поделится последним куском хлеба…
Так сильно в женщине материнское чувство! Все люди на земле – ее дети, всем людям на Земле она мать. Но как женщина – в узком смысле слова – она может быть лишь матерью «своих детей», то есть детей, рожденных в любви!.. Или наконец – в любви-долге…
Природная основа
Суверенность пола и инстинкт любви – та двуединая ладанка, с которой мать природа выпускает нас в жизнь из своих рук…
От места, положения, отношения к этому двуединству – между природой и обществом – определяемыми обществом, зависит и само общество. Зависимость эту общество либо не сознает, либо сознает декларативно. Оно – в собственных целях! – старается всеми силами отдалить это двуединство (самую сокровенную и суверенную сущность природы) от природы и приблизить к себе. Этим общество теряет природную основу: рубит сук, на котором сидит…
Незаменимая
Что-то уж очень ныне форсируют поэты свои голосовые связки… Увеличилась численность аудиторий? Но ведь на то и – микрофон и динамики, радио и телевиденье, которых не было прежде…
Господи! Как они натужают голос, горло, не «читая», а «крича» свои стихи!.. Ведь, что ни говори, поэзия дело нешумное, несуетное, одинокое и интимное. Из души в душу, а не из «крика» – в «шум»! То же – о «жестах», «мимике», «эффектации»…
Видимо, уже сама потребность «кричать» свои стихи – свидетельство неистинности их, отсутствия в них «лирического стеснения» (какой емкий глагол – и здесь – у Пушкина!), отсутствия поэзии…
И это же, видимо, инстинктивно пусть, сознает поэт, старающийся «гулом» и «шумом» оглушить аудиторию…
«Ты сердишься – ты неправ», – говорили древние. Такому поэту, перефразировав древних, я бы сказал: «Ты кричишь свои стихи – ты не поэт»…
Певцы, правда, говорят, что пение – «хорошо организованный крик». Да, но и они имеют в виду – «крик» не из горла – из глубины человеческого существа, чувства: души… И ничем ее – душу – не заменить!
Тайна в тайне
Пушкина ждет мировая слава! Не просто стать в мировой славе наравне с Гомером и Шекспиром, Данте и Гёте, а по праву стать выше их: своей общечеловеческой универсальностью! Ведь такова и вся наша классика – признанная именно мировой не в силу одного лишь превосходства отвлеченной художественности, а в силу общечеловеческого значения ее этических и духовных устремлений, ее гуманизма… Собственно, Пушкин и дал такое направление нашей классике. Через ее «верхние слои» и надлежит миру открыть Пушкина!
Но до этого Западу надлежит, наверно, понять наш народ, о котором им сказано: «загадочная славянская душа». «Загадочность» прежде всего – в духовном чувстве жизни, в жажде общечеловеческого служения. Чтоб понять такую «загадочность» – Западу нужно по меньшей мере отрешиться от мещански-торгашеского эгоизма, от морали аморальной корысти, о частнособственнической философии, от беспринципности и цинизма – «успех – все!». Нужно обрести непреходящие – духовные – ценности, проще говоря: обрести душу!
И если до сих пор Западом не понята «загадочная славянская душа», которая не стояла на месте, не ушла путем «деланья денег» и накопительства, а на основе лучших свойств народа устремилась к жизни, единственно достойной человека – к социализму, чем еще увеличила недоумение мещанского Запада, то как же ему понять поэта такого народа? Ведь когда еще сказано – «Умом Россию не понять»! Тем более рассудочным, торгашеским умом!..
Итак – еще не понят в лучших устремлениях народ великий наш, его «загадочная душа», без чего не сможет быть понят и великий поэт великого народа: Пушкин! Пока здесь слышим много временного и случайного, обывательского и мещанского, все в меру своего разумения… Это мы говорим об искренних попытках: понять «тайну в тайне». О клеветах же говорить не стоит. Черни не убавляется в мире по мере его официальной (или формальной) демократизации.
И Пушкин (его гений, его слово, его духовная мысль) борется теперь уже с мировой чернью. Он помогает нам в этой борьбе!
Когда-то он провидел: «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой». Ему этого было достаточно. В этом было предвиденье и всемирной славы!
Духовность поэзии – ее бойцовская суть – особые. И в борьбу с чернью поэзия выходит поэтому на сокровенный поединок. В этом поединке – материнское мужество терпения, любви, жертвенности. И надежды-ожидания – пробуждения совести. И в этом уже третья – самая общая для поэзии – тайна. И она тоже неизбежно прольется в душу всех народов мира!..
Настроение и состояние
Позвонил Ф. – он что-то мрачно настроен. Наверно, первые неудачи с его новым романом. Вернее, с рукописью нового романа… Да оно и понятно. Ныне – «судьи кто?» Над писателями «судьи» – редакторы и рецензенты – чаще всего люди никакого отношения к литературе («творчество!» «призвание!» «талант!») не имеющие. А то и вовсе «девицы» и «дамы», которым уместней было бы служить в сберкассе, «приход-расход», чувств никаких не изведав…
Редакторами на Руси были Пушкин и Некрасов, Достоевский и Щедрин, Толстой и Горький! Удивительно ли что была большая литература – и что ныне она прозябает?.. Редактор, литература – служащие!
– Здравствуйте! Что нового?
– Новое – обязательно плохое… И чем больше, тем правомерней. А все по привычке – подавай всем новое…
– Так уж совсем-совсем хорошее – невозможно?
– В современном мире?.. В конце ХХ века?.. Лишь как случайность!.. Как исключение, подтверждающее правило! Закон…
– Думается, эта философия – случайность… не из художнического – из – простите – обывательского нашего начала… Художничество – оптимизм!.. Даже при всех личных бедах… Сам факт творчества в любом случае… Вы ведь знаете – даже: чем хуже человеку – тем лучше творчеству. Сервантес, создавший – в тюрьме – «Дон Кихота», Болдинская осень Пушкина…
– Да… Это некое сознание, что – пусть уж мне лично плохо – зато миру хорошо… Все образуется. А теперь – мне плохо, всему миру плохо, не видно, чтоб – «образуется»… Вот и уходит художник – уж насовсем…
– Вы с таким убеждением… С такой философией писали свой последний роман? Это ведь не настроение – а состояние!
– В том-то и дело, что еще с настроением – «мне плохо – зато миру будет хорошо… Обернется»… И вот мне – какая левизна редакторская!.. Впрочем, скорей всего – демагогия, чтоб разделаться со мной и моим романом! – говорят: нужна «действительность», «актуальность», «критика недостатков» – и прочее… Понимаете, – то нельзя критику: все-все прекрасно, «отдельные недостатки» и «нетипично»… А теперь – «давай критику», после того как эти же редакторы затащили творчество в парашу… И вот демагогия наизнанку… Так что теперь – не настроение: состояние! Пусть сам пишет товарищ редактор! Ну их всех к… Позвоните еще как-нибудь… Выберемся на природу, на солнце… А сейчас я – как в дерьме. Сам себе противен, и все разговоры будут – такими. Ладно? Договорились? Вот и хорошо, что понимаете меня и мое состояние… Всего хорошего! Впрочем, возьмите пока роман почитайте? Вот и спасибо! Вот и хорошее!







