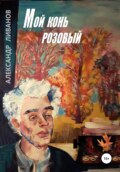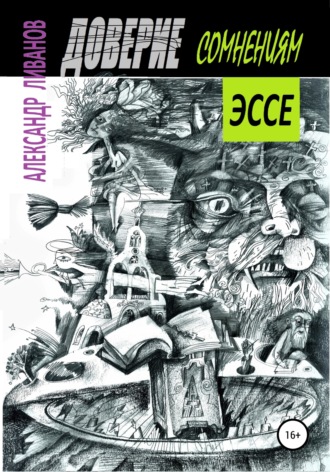
Александр Карпович Ливанов
Доверие сомнениям
Общая примета
Иной писатель (его книга, форма ее художественности, особенно в случае – формализма) мне напоминает того человека, о котором я то и дело слышу, что у него «хорошие манеры», то он «хорошо воспитан», после чего я уже невольно думаю, что вряд ли хороши они, его «манеры», его «воспитание», если они замечаются и заставляют о себе говорить!..
Дух истории и ножницы
В самом ли деле в истории – подобно поэзии – нет места всему «бытовому», «мелкому», «описательному»? И истории, стало быть, присуща – «иерархия предметности», как сказал о поэзии Толстой?.. Но не подражает ли здесь история поэзии, не тянется ли за нею, как провинциальная модница за проезжей столичной дамой, но впадающая лишь в опорность. Желая казаться, важной, в кокетливость – из-за того, что ей не даны естественность и искренность?
Вот уж за кем хотелось бы всегда видеть истинную естественность и подлинную величавость – это история!.. Ведь каждая бытовая мелочь, тем более – подробность-делать – тут дороги и этично освежают чувство, обостряют восприятие, ощущение причастности судьбы… Не так ли писал Карамзин, не так ли читали современники его «Историю государства Российского»? Историк своим живым творческим чувством возвысился до поэта! Только так история и философична…
Пушкину были по душе эпичный лиризм, жизненная художественность, «самозабвенный субъективизм» как Карамзина, так и Пимена! Пушкин – первый наш народный поэт потому, что первый постиг народ в его главном триединстве: языка, истории, духа жизни, в трех главных истоках поэзии!
К сожалению, ныне историк и письменная история все больше отдаляются от поэт и поэзии… И, стало быть, и от философа. Если поэзия избегает бытовую деталь, описательность, зная и выражая образно, душевную («душа» – уже – величайшая образность, самая изумительная метафора!) – художническую сущность общего, будучи в многомерности разложимой, как луч на все цвета радуги, то история ныне все чаще избегает описательности, потому не знает их, историк не редуцирует их как художник, не воссоздает из духа явления, оперируя прагматичными, социально-вульгаризаторскими, прописями…
Один молодой историк мне показал листки – «купюры» из его рукописи о Куликовской битве. Некое «раблезианское суждение» в самом взгляде на битву и ее истоки… Редактор (женщина) даже в ужас пришла. «Какие могут еще быть шутки по поводу истории!». «Но, если народу не чужды шутливость – почему история должна бояться ее?». Но задействованы были редакторские ножницы…
Между тем в листках-купюрах я прочитал следующее: «…Если б татары ели свинину, а русские – конину, если б татарки носили юбки, а русские женщины – шаровары; если б татары были привержены к земледелию, как русские, любили пахотную лошадь, а не коня, годного лишь под седло в набегах, сами Христос и Магомет не могли бы поссорить народы, да и не ведали они – где свой, где чужой, и никакой кровопролитной битвы не потребовалось бы!».
Шутка и вправду не лишена здравого смысла. Духовная культура объединяет людей, но материально-бытовая культура, особенно когда она притязает на всю народную культуру, высокомерно считает себя исключительной, даже абсолютной, такая материальная культура, разобщает народы, рождает их антагонизм, а то и приводит к войне…
Художественность и подлинность
Бытовые культуры – куда больше, чем «культуры вообще», чем даже религии и идеологии – рознят народы, рождают их непримиримую вражду… И эта же, бытовая культура, – «массой» – прежде всего принимается за «национальный дух», за «культуру нации», о чем любит столько толковать компиляторски-торопливая история и «исторические романсы» средней руки…
«Обрядово-бытовая культура» – имеющая огромное значение в исторических конфликтах народов, в их судьбах, почти начисто упускается историей! Вот почему подлинная история пишется и переписывается – пока не становится предметом поэтов, художников, писателей!
Историки, которые все в истории «выводят» из социально-экономического уклада жизни, могли бы тут вспомнить Энгельса, сказавшего, что о подлинных движителях исторического процесса Европы он узнал больше из романов Бальзака, нежели из трудов всех современных ему политэкономистов!..
Одна из формул
Стилистика в понимании поэзии – это нечто вроде «спирали на двухколесном мотоцикле по вертикальной стене», это – некий полет «аппарата тяжелее воздуха», это – все, что «противоречит закону; что «не может быть», но свершается, как гласит одна из формул подлинного творчества: «невозможное – возможно»!
Стилистика в понимании корректора (незрелого читателя) – это устрашение чуда, остановленное движение, выключенная скорость (и неважно, мол, что мотоцикл или самолет здесь, «возвращенные закону»… разбиваются). И все во имя «грамматики», «нормы», «правильно»!..
Не хлебом единым
Подобно художественному произведению – жизнь не есть один лишь «текст» («реальность»), она, главным образом в «подтексте» (дух жизни), и в «надтексте» (общая задача природы, в которой жизни человеческой отведена, по-видимому. Своя отдельная задача, которую мы, каждый – своей жизнью – осуществляем).
Иными словами, ограничить понимание жизни одними материальными целями, значит прожить на свете – вслепую… Убог, душевно нищ такой человек. В вековечных трудах и заботах о хлебе насущном – «Не хлебом единым» – еще когда сказал народ!
В пути к духовному человеку
Вся история (от древнейшей до новейшей) – помимо всего прочего – некий обширный комментарий движения человечества к духовной цели. Здесь все перипетии, срывы, сбивания с пути, блуждания и надежды. Мы комментарий этот не всегда сознаем, потому что он не всегда пишется как должно бы, не всегда читается как надо…
Уже одно то, что религии – в самых разных формах, пусть от самых примитивных до самых изощренных – зарождались у самых разных народов, во все времена нашей, и, видать, других, цивилизаций, говорит о том, что человек всегда чувствует и сознает себя не только как материальная, но и духовная субстанция! Оккультность и религиозный культ, язычество и триединый бог, Христос и Магомет, – все-все подобное, не есть ли оно – адаптированное использование и эксплуатация изначального и вечного чувства человека, его души и ее духовных запросов, ее стремления увязать себя с жизнью – единой, безначальной и бесконечной!..
По сути все формы религии – обманывали душу, вместо этой потребности ей подсовывали затемняющие и закрепощающие символы, в то время как человек жаждал ясности и свободы, жаждал понимания цели и смысла жизни. Видать, все верования начинаются искренними духовными исканиями подвижников и кончаются ритуально-религиозными канонами службы, суть препятствиями на пути человека к духовному человеку.
Единственное бессмертие
В жизни каждого человека есть лишь одна расцветающая юность, в жизни каждого народа таких «расцветающих юностей» – множество. Потому что – народ бессмертен, в то время как отдельный человек смертен…
Инерция
Старушка и ее сумка на колесиках… Она идет себе, ступая размеренным шагом, о чем-то думает, а клетчатая, из какого-то сверхпрочного материала, сумка рывками бегает за нею, точно собака. Старушка и не помнит, и как бы даже не чувствует свою плотно нагруженную (килограммов двадцать, не меньше!) сумку!.. Я присматриваюсь, как послушно, точно стараясь не отстать от старушки, сумка на своей двухколесной тележке – кажется обычная тележка взяла и вздыбилась так, оставшись на задних лишь колесиках – следует за своей хозяйкой.
Как-то, за рассеянностью и невнимательностью к вроде бы заметному явлению быта («ускоренный темп жизни»), мы забыли окрестить, дать сумке-тележке – имя! Скажем, куда более мелкому с виду явлению быта – к сетке, заменившей вдруг в войну все виды сумок и корзинок хозяйственных, когда-то отнеслись повнимательней, назвав ее так метко: «авоська»! Секта без притязаний заталкивалась в карман телогрейки: «авось будут что-то давать!». К слову сказать, – во время войны в тылу почти ничего не продавали «давали»! До сих пор бытует это слово «дают», редко услышишь – «продают»! За сеткой место сумки – стояла, стало быть, целая психология военного тыла, его «случайного» – «авосичного» – быта. Эта же сумка-мешок на колесах – безымянная. А ведь большое удобство в быту!.. Но нет за нею психологии, истории: лишь быт и удобство.
Затем, каждая новинка в жизни должна пробить себе дорогу сквозь людской страх новизны, неприязнь, насмешливое любопытство, через, наконец, «А ну-ка я попробую…». Вот и с этими мешками на колесиках тоже произошло нечто подобное… Сейчас они на улице – обыкновенное явление. А вот, помню, лет этак 20-25 тому, в пору первых наших туристских вояжей в Европу, первых рассказов и впечатлений, я впервые услышал об этой тележке. Кто-то из туристов в ней узрел даже характерную деталь жизни и быта Запада…
– Неужели – мешок на колесиках?
– Представьте… Вот я вам это сейчас нарисую на бумаге. Тащит за собой по улице, по магазинам и рынкам! И женщины, и мужчины так… Двухколесная тачка: хочешь, толкай, хочешь, тащи…
– О, мещане! Это же надо придумать такое! Значит не носит – возит, сами себе кони, сами погонялы? Не любят себя ни в чем утруждать… Мещане – удобство – их бог!.. Что с них возьмешь!.. Нет уж, нашему брату это не подходит!
…Подошло, оказывается, и нашему брату… После страха новизны, неприязни, насмешливого любопытства и – наконец – «А ну-ка, и я попробую…». После лукаво-простодушного консерватизма привычки.
Интересно, что этот комплекс – страх новизны… и т.д. – не бывает пассивным. Рассудок трудится, выдвигает резоны, критикует, находит в новом несостоятельности. И – «Нет уж!». Когда-то крестьяне, иные из них, встречали с большим удручением трактор. Он-де пахать так, как лошадьми, не сможет, он своим дымом отравит поля!
После войны обычный холодильник сочтен был как роскошь, излишество. Здесь резон был таков: «Отродясь жили без них!».
Помнится, как я сам противился другой новинке… электробритве! Я все еще брился немецкой, трофейной «золинген». Серия, или марка, бритвы – «два человечка». На утолщенной стороне бритвы и были смутно выштампованы эти «два человечка», положившие руки друг другу на плечи.
Электробритва мне показалась эффективным, но не практичным изобретением. Рассудок даже призвал мои инженерные познания: «происходит срез по принципу ножниц… Или на подобие той же машинки-нулевки для стрижки… Высота среза, закрепленного в одной точке волоса, не может быть меньше толщины одной из сторон режущего механизма… И, стало быть, чисто электробритва не бреет!».
Иными словами, я и вправду полагал, что приходит не бритье, а стрижка… Мой инженерный резон был сильнее того, что сам видел… Электробритье было чистым и щеки оставались гладкими! Я не учел способность кожи щек «прогибаться» выше нижней режущей плоскости! Пока не уступил напору кого-то из друзей и не сказал: «А ну-ка, и я попробую…». И был изумлен… Уже, не столько, может, чисто побритой щекой, сколько, во-первых, несостоятельностью своего инженерного резона, который полагал непреложным, во-вторых, живучестью нашей инерции, которую надо бороть в себе: поистине, активен в нас консерватизм привычки!
К чему эти рассуждения, эта «философия на мелком месте», вправе подумает читатель. А вот к чему они… Как же тогда должно быть устроено воображение, какая отвага и сила веры должны отличать каждого изобретателя! Вместо всех членов в формуле нашего – обывательского – сомнения («страх новизны, неприязнь, насмешливое любопытство» – и т.д.) у него проставлены другие члены формулы, все из уверенности, любви, активного доброжелательства! И стало быть – этим тоже (а не просто общностью прописки в одной и той же рубрике – «творчество») изобретатель – родня поэту! Он – творец так называемой «материальной культуры», равно как поэт – творец духовной культуры. И он – изобретатель – творец материальной культуры – так же неповинен в мещанской пагубной страсти вещизма, как поэт неповинен в бездуховном эстетстве начетника и цитатчика поэзии, у которого сердце ничего не подсказывает памяти!
А теперь – вспомним тот разговор между туристом, побывавшим в Европе и поразившимся «мешку на тележке», сочтя его типичной деталью западного мещанского образа жизни, – и его слушателями, которые так быстро его поняли, согласились с ним. И, положа руку на сердце, скажем – всегда ли вещь означает мещанина, а страх перед новизной – и т.д. означает естественное, здоровое, тем более – духовное чувство жизни?..
И в который раз вспомним мудрого Козьму Пруткова и его – «зри в корень!».
Но дело в том, что корень каждого явления глубоко скрыт, далеко он от нашего зрения. А дух жизни – тем более – складывают, как видим, две культуры, общие в творческом начале, пересекающиеся в нем, но подчас расходящиеся в результатах пользования их плодами со стороны человека…
Падение духа жизни
Фашизм – генезис и природа его все еще не изучены. Все еще, например, не установлено, сколько здесь должно отнести на счет самой его идеологии, его партийно-организационных и политических форм, а сколько на счет этического несовершенства человека; сколько повинна здесь именно германская нация, а сколько все нации, всё человечество…
Чем больше думаешь о том, как же могло случиться, что целый народ (чуть ли самой цивилизованной страны в центре Европы!) так низко пал (из выгоды, страха, обмана), покорился фашизму, тем чаще приходишь к мысли, что все же вина не столько на самом народе, на капитулянстве социал-демократии в Германии – сколько на омещанивании и капитулянстве немецкой культуры. Духовное падение целого народа стало возможным из-за падения его литературы – первейшего инструмента мысли, и отдельного человека, и всего общества.
Немецкая литература перед приходом фашизма, особенно во время его становления, отказалась «ведать человеком», человек не мог серьезно внять такой литературе… Мы говорим о литературе в целом, а не о ее отдельных – антифашистских – проявлениях в лице отдельных, даже всемирно-известных, художников слова (большей частью фашизмом вынужденных к эмиграции).
Ведь начинается фашизм не с газовых камер – а с идеологического авантюризма, не с массовых убийств, а с обмана и дискредитации человеческих ценностей. Отсюда до любой подлости – один шаг…
Мир помнит и то, что фашизм ознаменовал свой приход к власти чудовищными аутодафе, варварскими кострами, на которых сжигались лучшие произведения мировой литературы. Подлинная художественная мысль – альтернатива фашизму!
Смежая веки
Человек меняет вокруг себя предметный мир, не сознавая при этом, что сам себя таким образом меняет. Ведь новые предметы создают новую психологию!..
Скажем, при свечах думалось и писалось, наверно, совсем по-другому, чем ныне, при электричестве… Трепетный свет свечи, этот багровый шар света посреди полумрака, замкнутость и интимность освещенного пространства, некое камерное, очень «личное» освещение, в свой черед настраивающее на такое же настроение человека, создавая сосредоточенность мысли, ее несуетность, чувство одинокости среди огромного мира, но и рождая вместе с тем сокровенное ощущение своей человеческой личности… Ничтожно малый шар света и человек в нем – одни на всем земном шаре, земле людей: образ одиночества. Да и сам свет, сама освещенность – точно вся в рембрандтовских бликах-рефлексах, в резких перепадах видимого и невидимого, в отстраненности и избирательности, в размытости очертаний – точно на гравюре. Зримость как бы взывающая к помощи осязания, дающая и душе какие-то свои, чаще всего лирико-элегические, или эпично-отрешенные ритмы. Пимен – при свече, Моцарт – при свече, Пушкин – при свече! «Свеча горела на столе, свеча горела». (Пастернак).
Совсем иное: электричество, его ровная, бесстрастно-холодная размерность, неподвижная, со всех сторон омытость предметов, рассеивающее, по всем этим предметам, внимание… Нет, никак оно не свет отшельничества и одиночества! Напор электрического света статичен и неживой. Разве сравнить его с живым трепетом зажженной свечи? Зажженная свеча, гусиное перо, листки бумаги: и поныне символ творчества. Пусть и людей минувшего. «Не говори с тоской: их нет; но с благодарностию: были». Почти вся наша классика создана при свечах. И великая музыка, и великие полотна живописи! Ведь должен же что-нибудь да означать – свет?
Довольно подробно изучена наукой физиология света, но совершенно здесь не занимает ее психология. Здесь – в этом вопросе – при свечах ли, при электролампе – потемки. А, видать, напрасно! Еще не сформулировала наука то, что чувствуют поэзия, музыка, живопись. Когда мы хотим, чтоб нас осенила мысль, когда мы сосредотачиваемся над чем-то, ища здесь истину, догадку хотя бы – мы невольно смежаем веки, закрываем глаза, прикрываем их рукою. Свет – форма и мера его – не просто исток поэтичности и художнических поисков, знать, здесь – сам исток творчества!
«Писать, брат, трудно!»
Пишущие принадлежности, вообще средства процесса письма – совершенствуются очень медленно. Сколько веков потребовалось, чтоб стальное перо, скажем, заменило гусиное! Толстой подчас писал каким-то «электрическим карандашом», Чехов в поездках из Ялты в Москву пользовался неким приспособлением, позволяющим писать в поездке, у Короленко прочитал о прессе, которым он снимал копии с рукописей и писем!.. Не достает воображения – представить эти новшества того времени, ныне почему-то глухо забытые…
И вот, наконец, две новинки сегодняшние: шариковые ручки и фломастеры… Разве они революционизировали письмо? «Шарик» своими юзами, неустойчивостью обезличивает почерк (для писателя – и почерк, и обезличенность его – не пустяки! Леонид Леонов, например, говорил, что сиюминутный образ почерка, даже начертания слова и буквы – для него, что «созерцание» самого образа мысли! Иными словами – «как пишу» – сродни здесь – «что пишу»!), он делается неузнаваемым для самого себя. Да и необходимость «нажима» утомляет. Особенно того, кто пишет много, для кого процесс письма сопровождается беспрестанным эмоциональным напряжением, то есть: для писателя. Фломастер для письма – это по сути тончайшая волосяная кисточка вместо пера. Он меньше задевает бумагу, менее требователен к ее качеству, стало быть, и меньше утомляет. А вот все одно оставляет ощущение, что не пишешь, а «рисуешь» кисточкой!
Что и говорить, немассовость писательского труда, самого по себе далеко не легкого – причина невторжения в него изобретательской и рационализаторской мысли. Пишущие принадлежности даже – весьма мало изменились за столетия. Те же чернила, та же бумага, то же перо… Мы даже верим в их незаменимость – в их органичность!
Любопытно, что почти все писатели Запада не пишут пером, всю писательскую работу выполняют на машинке, даже не прибегая к услугам машинисток для переписки. Но редко кто из русских писателей работает так с машинкой, хотя у всех она есть! Интимность процесса письма начисто рушится стуком машинки, мешает слышать звучание фразы… «Писать очень трудно!» – было приветствием «серапионовых братьев»!
Сходство генеалогий
В музее радиотехники мне довелось увидеть выстроенные в ряд радиоприемники. От самых первых, поповских грозоотметчиков и детекторных, до самых последних, ультракоротковолновых, для чуткого слуха которых сам океан не помеха!.. Передо мной предстала вся эволюция техники радиоприема, всех этих тружеников эфира, предстало все в каких-то переблесках и различия, и общности, несходства схожего и сходства несхожего; была во всем этом именно материализовавшаяся идея – развития движения, усовершенствования! И вместе с тем и другая идея – единства, неразрывности, где каждая единица представала невозможной без соседней, без своего предтечи! Целая цепь рода, генеалогия, с ветками-отвлечениями!
И неотвязным почему-то было чувство, что все-все представленное – дело рук одного и того же незримого мастера, каждый раз усовершенствовавшего прежнюю модель и получавшего взамен ей новую; было чувство, что этот же мастер и выстроил передо мной ряд улавливателей мирового эфира… Все лучше, все совершенней.
Я узнавал знакомые во всем, так сказать, «генетические константы» и «мутанты», во всем ряду приемников – но думал я отнюдь не о чудесах электроники, а совсем-совсем о другом…
…И опять передо мной всплыл тот… кролик. Неживой, тушка его в мясном отделе магазина. Кролик – для лучшего обозрения хозяйками? Наивный изыск рекламы, что ли? – был поставлен вертикально и хорошо был виден сквозь стекло витрины. Помнится, я даже вздрогнул от неожиданности: так явственно и живо тушка этого кролика мне напомнила вдруг человеческое тело! Разве что ваятелю всего-навсего довелось бы немного «уточнить» лепку, конфигурацию, что-то вот здесь «прибавить», там «убавить» – и вместо кролика за стеклом стоял бы человек! Скажем, ребенок…
И уже потом, в туристской поездке, рассматривая у какого-то ученого в кабинете его альбомы с фотографиями и рисунками, классификационные альбомы от членистоногих до млекопитающих, я снова вспомнил кролика, так явственно мне померещившегося – ребенком…
И те же, сходные, мысли на радиовыставке! То же единство рознящегося, та же устремленность усовершенствования – точно сделано все одними и теми же руками прилежного и неукоснительного мастера – все то, что зовем по существу малопонятным словом, нет, термином: «эволюция»! Вся живая природа от амёбы до человека – шла не «развитием» и «улучшением» – созданием нового, лучшего! Старое отрицалось, а не улучшалось! Лишь в таком смысле: эволюция…
Кто же, кто же, наконец, этот мастер?.. «Природа»?.. Но ведь и это термин, тоже по существу малопонятный…