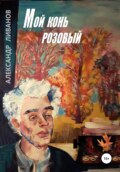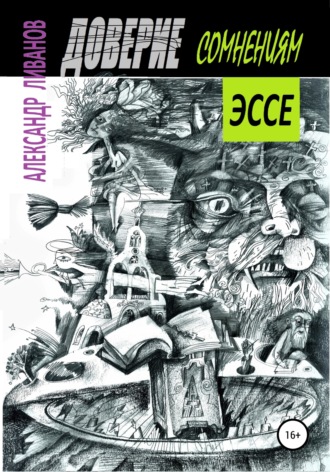
Александр Карпович Ливанов
Доверие сомнениям
Автор и переводчик
Недавно мне дали на рецензию такую рукопись, частью в подстрочниках, частью уже в переводах, на русском языке, сделанными местными русскими поэтами.
О подстрочниках. Сколько раз убеждался я, что качество подстрочников зависит от того, делал ли их сам национальный поэт, знающий русский язык «обиходно», или русский поэт, пусть и знающий так же «обиходно» язык оригинала. Всегда качество подстрочников лучше во втором случае! Затем, о самих переводах. Автор подчас годами детолюбиво трудится над стихотворением, улучшает его, доводит до совершенства все новыми и новыми саморедакциями. А вот переводчик редко в работе своей возвращается к своему переводу! А ведь – напрасно. Словно неродные они – дети его…
Затем, Пушкин – у Мицкевича, Лермонтов – у Гете переводили лишь близкое, что особо понравится. Ныне переводчики трудятся по подстрочникам «от страницы такой-то до страницы такой-то», то есть, «дают валовую продукцию». Как всюду, вал и здесь снижает качество продукции. Т.е. художественность переводов…
Диву даешься, что все это длится годами – никто (из уважения будто бы к поэзии вообще, к национальной поэзии, в частности), не решается навести здесь порядок!
В мире перевода
Среди готовых переводов – в той же рукописи – запомнилось стихотворение о художнике. Который-де, не помышляя о признании и славе, трудится самозабвенно, но слава к нему приходит уже посмертно, и, стало быть – прекрасен, завидный такой удел… Но как это написалось (по-русски уже!)? А вот как…
Кто-то жертвой становится вновь –
Быть при жизни ему неизвестным
(Пусть он в краску подмешивал кровь
И писал этим адским замесом).
Но пройдет по годам и векам
Как солдатик – живуч – оловянный.
Все пройдет и придет еще к нам
Тем известный, что он безымянный!
Зря не спрашивай – след запропал –
Кто безвестными были, какими?
И теперь не любой аксакал
Сразу вспомнит фамилию, имя.
Не гонялись за именем, но
И себя не теряли в юдоли.
Разве был бы ты против такой
Неизвестных художников доли?
Что и говорить, бывает, что неизвестные художники (да и поэты) обретают именно – посмертную славу. Но каков этот «адский замес», которым он писал, краски, замешанные на крови! И даже, как будто, не на своей крови – в первой строке что-то такое сказано невнятно: «кто-то жертвой становится вновь»!
И вот – ты приготовился порадоваться «неизъяснимыми красками поэзии», а тебе вместо этого предложено нечто весьма малорадостное… Во-первых, изволь распутывать – не тайну, а неразбериху. Она так закралась неточным, мнимо-внушительным, словом, что и подступиться трудно. Можно бы подумать, что какой-то негодяй таким образом прославился в потомках. Что искусство требует даже таких «жертв», что поэт осуждает такого художника-негодяя, такой его путь самоутверждения. Так нет же, – «Разве был бы ты против такой неизвестных художников доли?». А ритм торопит, не дает вникнуть в смысл…
Стало быть, «кровь», «адский замес» – все это метафоричное по мысли автора и его переводчика, от небрежности перевода, от неточности обращения русским словом – стало сущим, стало фактом жизни художника! В итоге – пойди разбери, кто он художник этот: подвижник или негодяй? Осуждает его автор или воздает запоздалую дань признательности…
Нелегкая она подчас, рецензентская обязанность!
Единство противоположностей
«Единственный урок истории в том, что не извлекаем из нее никаких уроков»… Шутка Шоу, конечно, только шутка. Думается, дело в том, что уроки эти извлекаются слишком медленно, а учитываются народами еще медленней…
Скажем, такой урок, что сама история все еще пребывает неким «кровосмешением» государств и народов, представляемых нам как нечто единое, чуть ли ни органичное целое, в то время, как если не всю историю, то значительную часть ее, как раз составляет борьба народов со своими формами государственности! Мы уж не говорим про чисто официальную историю. Скажем, Карамзин, «вполне угодивший» своему монарху Александру I, объявленный официальным историком, уже при следующем монархе Николае I не мог «оправдывать его надежд», и был оставлен им с этого поста. Александр I чувствовал себя уставшим после победы над Наполеоном, к которой он был причастен лишь тем, что не мешал ни народу, ни армии добыть ее, полагал себя вполне либеральным, милостивым монархом… Сжатая пружина самодержавия при Николае I, после декабристов, учреждение охранного отделения (ничего более ненавистного, чем жандарм – не было в России!) отозвалась и после трех отнюдь не жестоких монархов! Реакция – сила обратимая, она вполне разрядила себя в 1917 году!.. Революции – сложение сил, как освободительных, так и революционных. Право же, не следовало б сносить старые памятники, одни лишь новые – не выражают диалектику развития!..
Народники и «бомбисты», эсеры и либералы, социал-демократы и наконец, большевики – это, в конечном итоге, и то же, давнее, последекабристское, сжатия пружины в механизме государственности.
Охранные действия государств, очевидно, первые повинны в том, что государства эти, их формы правления упраздняются народами, их революционной стихией! Поистине, никто не рубит там под собой сук, как те формы государственности, которые прибегают к усиленным внутри-охранным мерам! К гнету правления тут же прибавляется гнет – самый тягостный и оскорбительный – охранный. Мера не просто отчаянная – самоубийственная! В сущности, так предаются интересы народа, правительства вырывают пропасть между собой и народом, все становится фальшью и демагогией, наконец, и непримиримой враждой!
Классический пример этому – современная Америка, ее охранные учреждения (ЦРУ, ФБР и пр.). Ничто так не губит страну, не помогает распадению общества, не рождает недоверие народа к правителям, как эти заинспирированные, секретные учреждения, действия которых на деле направлены против своего народа, делают зыбкой и призрачной столь хваленную американскую демократию!
И в этой парадоксальности – учреждение, из страха перед своим народом, правительствами охранных институтов и косвенное ускорение этими институтами упразднения правительств народом – один из уроков истории! Нечто похожее происходит и с укреплением оборонной мощи. Правда, здесь уже «сжимание и разжимание пружин» происходит за пределами страны, на пресловутой «внешне-политической арене». Народы становятся средством самоцелей этих институтов!..
Нет, пусть медленней, чем хотелось бы – народы все же извлекают уроки из истории! Они более, чем предметны – кровь людская и миллионные жертвы достаточно убедительны…
Верное поименование
Есть писатели, прозаики или эссеисты, критики или литературоведы, о которых много говорят, много пишут, и при жизни, и после их смерти, но все сказанное или написанное, все оказывается более или менее мимоцельным, и писатели эти, и творчество их, как бы все время ускользают, так и не предстают «освещенными» перед нами тем единственным «фотогеническим» светом, который ждем долгие годы… Все, что говорится и пишется о них, скорее верно «вообще», но так и чувствуется, что они снова и снова не стали прямой целью разговора, а лишь поводом, сами же опять оставшись где-то в стороне, так же необъясненными, так и не дав себя рассмотреть, как человеческим ликом, так и творческим обличьем!..
Между тем, стоит произнести одно – простое и великое – слово «Поэт!», направить разговор в это русло – и сразу же многое становится на место! По меньшей мере верное имя направляет верно наши усилия для постижения явления обозначенно обобщенным именем: «писатель». И здесь вредит она, стихотворная узость в понимании поэзии!
Предвижу, как это удивит иных читателей, но тем не менее убежден: мы куда больше поняли в творчестве таких художников – «хороших и разных» – как Пришвин и Олеша, Шукшин и Шкловский, если бы отнесли их, каждого со своим суверенным миром из личности и слова, как поэтов – к ведомству поэзии!
Природные связи
Невежество, заблуждение, или ханжество, наконец, – не видеть, не желать видеть (не потому ли подчас и впрямь становящейся невидимой?) связь между всеми социальными проблемами – и самой сильной природной связью «мужчина-женщина»… Более того, социальные проблемы – это не только следствие природной связи, они и объяснение могут получать единственно через эту связь. Между тем ее считают лишь частью, лишь деталью социальных проблем! О ней вспоминают лишь по поводу иллюстраций «растущего благосостояния», «повышения реальных доходов» и т.п…
Между тем, художники, которые всегда видели здесь достаточно далеко, всегда предупреждали, напоминали: «во всем ищу женщину». Она – и причина, и следствие, и объяснение всех общих и частных, долгих и повседневных сложностей.
Жизнь, которая позволяет себе подобную непозволительную роскошь, – не придавать должного значения, не изучать конкретно наполнения в природной связи «мужчина-женщина», уподобляется дереву, которое готово зачахнуть лишь бы «не признать» значение своих «темных корней»… Социологи, занимающиеся «только обществом», а не человеком, по существу ничем не занимаются, лишь путают и камуфлируют очевидное, даже то, что уже на поверхности жизни…
Дался им этот костер!
…Так и не нашел я у Мопассана этого места – о костре. Как его, мол, внимательно, долго, главное, заданно, должен рассматривать художник (писатель), чтоб этот костер потом написать, изобразить… Помню, преподаватели Литинститута (особенно те из них, которые сами ни при какой погоде не были писателями, но почему-то они «готовили» нас в писатели! Это были литературоведы, редакторы, критики, с постами и званиями, с окладами и апломбом, с солидными портфелями и престижной, полнокровной уверенностью в себе – рядом с ними поставить, скажем, Паустовского, он бы выглядел дворником или чистильщиком сапог!) то и дело нам напоминали про этот «мопассановский костер»: в нем-де был весь секрет писателя! Нужно, мол, так долго, так внимательно смотреть на этот костер, чтобы, наконец, увидеть в нем нечто необычное, нечто новое, и тогда это быстренько запечатлеть, и тогда ты – писатель… Дался им этот «костер»!
Что ж, Мопассану – можно верить. Чтобы ни сказал, и как бы ни сказалось у него, за словами как бы незримо стоит весь ресурс авторитета непревзойденного мастера новеллистики, стоит моральная значимость всего созданного им. Цитата, даже точная, подчас не впечатляет без контекста, без всего высказывания, даже без повода к этому! Нужен интимный, без посредников, контакт со словом художника…
Но с каким наивным самодовольством сообщали нам наши учителя про «мопассановский костер», как умильно трепетали при этом веки их глаз, как растроганно запрокидывали голову, изображая изумление, глубину собственного постижения и тонкость понимания, держа при этом паузу, точно артисты соседствующего с Литинститутом театром Бабочкина (мы его так называли)!
Помню профессора (белорусской литературы, кажется) , который был нам по душе уже одним тем, что никогда не затевал умных разговоров, не скрывал свое невежество, зычно хохотал, как бы показывая, что профессорство ему досталось вовсе не за познания, которыми не обладал, а за дородность и незлобивость, за то, что состоял в разных комиссиях и бюро, и всем поддакивал, со всеми соглашался, и все не столько из лукавости, сколько из нетерпения поскорее сбегать «за угол», пропустить «пару пива»… Большой, красный, простецкий с нами, хохочущий и до упоения довольный жизнью, он сам напоминал большую, поставленную на попа бочку пива!
– Ну, как? Бочковое – или бутылочное? Теперь и про костер можно погутарить? – встречая его, идущего от ларька, мы, студенты, подавали ему руку. Это была некая наша шифровка, он не только не обижался, а долго задерживая руку в своей, огромной, мокрой от пива, тряс ее, зычно хохотал, хитро прикрывая маленькие поповские глазки на красном и рыхлом бабьем лице. Хохотал с видом человека, удачно участвующего в каком-то всеобщем обмане, знающего, что и мы, и все остальные такие же участники в этом, или готовящиеся к этому, и, стало быть, чего здесь особо таиться или скрываться?..
Непростое умение – читать!
Как-то при Паустовском кто-то из студентов сказал. «Вот – выплывает из-за угла бочково-бутылочное». Паустовский лишь обозначил грустноватую улыбку и ничего не сказал. Похоже было, он отлично знал – о ком речь.
Кажется, лишь от этих двух, столь разных, людей не слышал я о мопассановском «костре»! Зато, помню, как удрученно воспринял Паустовский слова какой-то студентки – о Чехове. Мол, как это хорошо сказано у Чехова о человеке. Дескать, в человеке – должно быть все прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли!
Студентка явно хотела польстить Паустовскому этой цитатой – такой расхожей, такой несомненной, такой милой. Паустовский, странно, не растрогался. Когда студентка ушла, как бы нехотя, – видно, от досады – заговорил с нами. Он возглавлял кафедру творчества.
Эти его слова походя, слова-отвлечения, по ходу беседы в коридоре у окна – мне больше всего запомнились!
А мы как раз курили у окна, в которое прямо било весеннее солнце. Как-то становишься невесомым от такого солнца, размывающего вокруг контуры вещей и предметов. Белым накалом сверкали очки Паустовского.
– Эту цитату любят женщины! Особенно женщины-педагоги… Пожалуй, повстречали бы самого Чехова, – угостили бы и его этой, его же, цитатой! И ничтоже сумняшеся, что цитата вовсе не его, это у него персонаж, и тоже для женщин, так говорит!.. Разве не чувствуете – насколько узко, рецептурно эстетическое мерило человека! До наивности все!..
Астров в «Дяде Ване» это говорит! Так сказать, положительный герой. И никто не замечает, что слова сказаны с немного ироничным преувеличением – о женщине же! О жене профессора, красавице Елене Андреевне, которая нравится Астрову, но которой… «скучно жить». Астров чувствует, что она ему нравится как женщина, но не смог бы ее любить как человека. Поэтому эти слова – и немного преувеличены, и иронично-небрежны, потому что после них следует: «Она прекрасна, спора нет, но… ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой – и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие».
То есть, речь о паразитке! Хорош образец человека! Да еще – для Чехова! Но я почему заговорил об этом? Удачный пример тому, как мы не умеем читать. Так нельзя!.. Если уж говорить – об «учебе на писателя», то оно, по крайней мере, в том, чтоб научиться читать. И еще Астров добавляет – «Праздная жизнь не может быть чистою». Вот и цена всей цитате, которой ученики в сочинениях своих стараются польстить своим марьивановнам, нынешним учительницам словесности, ради отметочки! Мол, «Чехов сказал…».
Ну ладно, читатели-обыватели, ну ладно, эти маривановны, но ведь здесь – студентка литинститута, «учится на писателя»… Нельзя так, товарищи! Особенно с классикой… Это то же, что сказать – картина Сурикова «Боярыня Морозова» – черная, а «Золотая осень» Левитана – желтая… Живопись! Помимо живописи слов, звуков, пауз, ритмов… Еще и живопись смысловых оттенков. Если это не чувствуем в классике, худо! Томас Манн сказал, что писатель – это не только совесть сердца, но и совесть чуткого и тонкого слуха!
Как видите, научившись в школе читать, став вроде грамотными, – мы еще хуже, как бы неграмотны? Почему? Потому что – самоуверенность! Даже заносчивость!.. Между тем – человек, который умел читать Библию, одну пусть Библию, тот и Пушкина научится читать! Потом – очередная ступень этой, явно заносчивой, неграмотности. Человек учился, закончил, имеет диплом. Занимает должность, служит… Даже редактором! А вся учеба, все чему научился – смотреть на вещи только с определенных позиций, все укладывать в определенные рамки! Как некий механический работник ОТК… ОТК! Не соответствует – долой! Художник движется из некой точки души расходящимся углом, все вширь и вдаль, не спешит замкнуть все треугольником. А читатель-обыватель-редактор, те именно замыкают всё треугольником: можно все исчислить… А критик? Та же геометрия, те же построения и исчисления! И критик, и редактор, и молва – подобие треугольников! Даже не точки зрения – треугольники зрения, треугольные глаза! Идеология, актуальность, так принято… Все трудней и трудней художнику!
Старинный электрический звонок – точно огромный краб на стене, мглисто мерцающий алюминиевой покраской, зазвонил – на лекцию, «на учебу». Я с досадой подумал, что настоящей учебой была эта беседа, в коридоре, на перекуре, невзначай – а там, в аудитории, будет простая трата времени. Звонок звал на одну из того множества лекций, на которых мы читали свои сырые, продлинновенные опусы, а Паустовский, со скорбно-терпеливым вниманием, нас слушал, слушал…
Вакуум
Беда нашего века не в том, что прошлые века все сплошь были «в боге», а он один в безбожии, а в том, что при нынешней общей просвещенности, бог, как идея и форма нравственности, оказался по разным причинам идеологии, остановленным и примитивным, смог быть упразднен… Ни человека для бога – ни бога для человека!..
Так – без движущейся к духовной бесконечности веры человек оказался в нравственной невесомости, перед всем релятивизмом морали. А это один шаг до – всепозволенности (преступность и наркомания, миллионеры-кооператоры и миллионеры-рэкетиры…).
Счастливое прочтение
Что хорошие книги надо перечитывать – это стало аксиомой, которую никто не требует, чтоб она была доказанной. А вот почему «надо перечитывать», или сколько раз, как и когда, это либо вовсе не объясняют, либо объясняют как-то произвольно, «по поводу», «очень лично» – и т.п.
Думается, дело здесь даже не в перечитывании вообще. Достаточно, наверно, прочитать хорошую книгу вторично, «к месту и ко времени», если первое чтение ее состоялось слишком рано. И тогда, вероятно, получится – то, что пропускалось за первым чтением, будет сейчас прочитано с особым вниманием. Наш возраст, жизненный и читательский опыт, должен, стало быть, соответствовать каждой хорошей книге. Книга же терпелива, она – ждет, у нее – нет «возраста», не боится она «остаться в девках»!..
Иными словами, есть лишь одно настоящее прочтение хорошей книги. Многократное чтение – по существу поиск такого счастливого прочтения! Писатели же – кроме отдельных случаев – зачастую не задаются читателем, его возрастом, пишут как бы «из всех своих возрастов», для «всех читательских возрастов». Ведь и вправду возраст читателя в таком смысле – единственный, у читателя он всегда – множественный. В этом тоже «разница» между читателем и писателем!
Скажем, никто не будет рекомендовать перечитывать такую несомненно хорошую книгу, как «Дети капитана Гранта». Она точно нацелена на возраст! Тут, наоборот, лучше даже не перечитывать. Чтоб не нарушить очарования, чувство какой-то личной, «душевной легендарности», не повредить восторгу и энтузиазму детства…
Вот уж поистине – в таких случаях «возвращения», «перечитывания» чаще наносят ущерб, чем добавляют что-то к пережитой когда-то радости. Сродни это потому тягостному чувству, которое испытываем, возвращаясь на родину милого детства. Мы озираемся в недоумении, сердце сжимается от боли: все то – и все не то. Где оно – детство, где его поэзия? Кто ее вдруг так жестоко отнял у нас?..
И здесь народ – поэт!
Не помню, кому принадлежит шутка – не столько язвительная и остроумная, сколько глубокомысленная – что никого не удивляет, кроме самих революционеров, повторение революций…
К слову сказать, не говорит ли она и о том, что все революционеры (и под стать им – их революции) ограничены в своих социальных и духовных задачах – в то время, как сам народ-труженик (всегда главная движущая сила в любой революции) и есть самый радикальный, самый последовательный и самый, наконец, законченный революционер? Не в смысле податливости самой по себе стихийной стороне революций, а в смысле бескомпромиссности их человеческих идеалов справедливости: свободы и равенства, братства и счастья?..
А еще иные толкуют при этом о чисто «практических», «материальных» (политических, экономических) целях народа в революциях! Народ и в революциях, стало быть, остается – поэтом, со всей сложностью и цельностью в духовном чувстве жизни, что «политэкономисты» и формулируют одномерно, рассудочно (как иная недалекая учительница и «объясняет» ученикам «содержание» иного гениального стихотворения!)…
Сокровенная «обойма»
У каждого читателя, равно как у каждого критика, есть свой «передний край литературы». Тут, конечно, неизбежны «обоймы». Есть и у меня эта своя «обойма» для шестидесятых-семидесятых и дальше… Поскольку «обойма» у каждого «своя», я с нею сверяю каждый раз «свою». Разумеется, полного совпадения здесь не может быть. Но когда среди прочих имен вижу Шукшина и Белова, Евгения Носова и Астафьева – я говорю критику («читателю») – все в порядке, «принимаю за основу…».